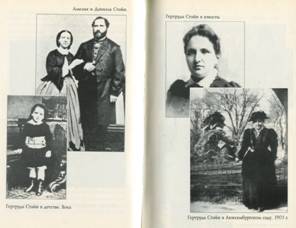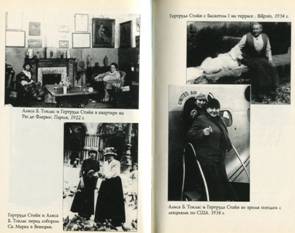---------------------------------------------------------------
© Copyright Гертруда Стайн
© Copyright Ирина Нинова, перевод с английского
© Copyright Лидия Андреевна Николаева-Нинова
Изд. ООО Ина-Пресс, СПб, 2000
From: phil_arts()nextmail.ru
Date: 17 Nov 2016
---------------------------------------------------------------
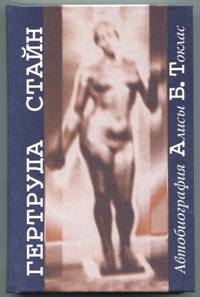
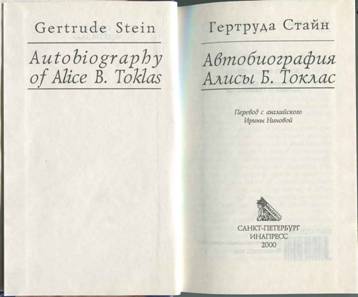
 Гертруда Стайн
АВТОБИОГРАФИЯ АЛИСЫ Б. ТОКЛАС
Перевод с английского И.А. Ниновой
СПб, Ина-Пресс
2000
Гертруда Стайн
АВТОБИОГРАФИЯ АЛИСЫ Б. ТОКЛАС
Перевод с английского И.А. Ниновой
СПб, Ина-Пресс
2000
Часть первая. ДО ПРИЕЗДА В ПАРИЖ
Я родилась в Калифорнии, в Сан-Франциско. Поэтому я всегда предпочитала
жить в умеренном климате но на европейском и даже на американском континенте
очень трудно найти умеренный климат и в нем жить. Мой дед по матери был
пионер, он приехал в Калифорнию в 49-м году и женился на моей бабке которая
очень любила музыку. Она была ученицей отца Клары Шуман. Моя мать была
очаровательная спокойная женщина по имени Эмили.
Мой отец происходил из рода польских патриотов. Его двоюродный дед
набрал полк в наполеоновское ополчение и был в нем полковником. Его отец,
устремившись на парижские баррикады, оставил мать едва они поженились но
быстро вернулся когда супруга лишила его содержания и зажил жизнью богатого
помещика-ретрограда.
Мне же всегда было не по душе насилие и милы были радости рукоделия и
садоводства. Я люблю картины, мебель, вышивки, дома и цветы даже овощи и
фруктовые деревья. Я люблю виды но люблю сидеть к ним спиной.
В детстве и юности я жила как всякая благовоспитанная особа моего пола
и состояния. У меня бывали в то время интеллектуальные увлечения, но очень
спокойные. Лет в девятнадцать я была большой поклонницей Генри Джеймса. Мне
казалось что из Переходного возраста выйдет прекрасная
- 7 -
пьеса и я написала Генри Джеймсу что я взялась бы инсценировать его
роман. Я получила от него прелестный ответ а потом, когда я почувствовала
свою беспомощность, мне стало очень стыдно и я не сохранила письмо. Может
быть тогда я решила что не имею права его хранить, во всяком случае оно
больше не существует.
До двадцати лет я всерьез интересовалась музыкой. Я прилежно училась и
прилежно играла но вскоре это показалось бессмысленным, мать уже умерла и не
было невыносимой печали, но не было настоящего интереса который побуждал бы
меня продолжать. В повести Ада из Географии и пьесы Гертруда Стайн очень
точно описала меня какой я была в те годы.
Следующие лет шесть я была вполне занята. Я вела приятный образ жизни,
у меня было много друзей много развлечений много интересов, моя жизнь была в
меру полной и приносила мне удовольствие но я была в ней не особенно горяча.
Так я подхожу к пожару в Сан-Франциско из-за которого в Сан-Франциско
приехал из Парижа старший брат Гертруды Стайн со своей женой и их приезд
совершенно перевернул мою жизнь.
Тогда я жила с отцом и братом. Мой отец был спокойный человек который
все принимал спокойно, хотя переживал глубоко. В первое ужасное утро пожара
в Сан-Франциско я разбудила его и сказала, было землетрясение и сейчас в
городе пожар. Заработаем себе дурную славу на Востоке, ответил он
поворачиваясь на другой бок и засыпая опять. Помню однажды, когда мой брат с
товарищем
- 8 -
поехали кататься верхом и лошадь кого-то из них вернулась к гостинице
без седока, мать товарища начала закатывать жуткую истерику. Успокойтесь
сударыня, сказал отец, может быть это мой сын разбился. Одно его непреложное
правило я помню всегда, если вынужден что-то делать, делай охотно. Еще он
меня учил что хозяйке никогда не нужно извиняться за то что в доме у нее
где-то беспорядок, ни малейшего беспорядка, коль скоро хозяйка есть, нет.
Как я уже говорила, нам очень удобно жилось всем вместе, и у меня
никогда не бывало ни мыслей о переменах, ни сильного желания перемен. С
нарушением привычного течения нашей жизни пожаром а затем приездом старшего
брата Гертруды Стайн и его жены стало иначе.
Мисс Стайн привезла с собой три небольшие картины Матисса, те первые
современные живописные вещи, которые пересекли Атлантику. Я познакомилась с
нею в то сумбурное время и она мне их показала, а еще она много рассказывала
о своей жизни в Париже. Немного погодя я сказала отцу что наверное уеду из
Сан-Франциско. Он ничуть не встревожился, тогда ведь очень многие уезжали и
приезжали и уезжали многие мои друзья. Меньше чем год спустя и я уже уехала
и была в Париже. Там я пошла в гости к миссис Стайн которая тем временем
вернулась в Париж и там у нее в доме я познакомилась с Гертрудой Стайн. Меня
поразила ее коралловая брошь и поразил ее голос. Могу сказать что только три
раза в своей жизни я встречала гениев, и каждый раз у меня
- 9 -
внутри что-то звенело и я не ошибалась, и могу сказать что все три раза
это случалось задолго до всеобщего признания их гениальности. Те три гения о
которых я хочу рассказать это Гертруда Стайн, Пабло Пикассо и Альфред
Уайтхед. Я много встречала крупных людей, я встречала нескольких великих
людей, но я знала всего лишь трех первоклассных гениев и когда я видела их
впервые у меня внутри каждый раз раздавался звон. Ни в одном из трех случаев
я не ошиблась. Так началась моя новая полная жизнь.
- 10 -
Часть вторая. МОЙ ПРИЕЗД В ПАРИЖ
Это был 1907 год. У Гертруды Стайн как раз печатались Три жизни которые
издавались за ее счет, и она была погружена в работу над Становлением
американцев, своей книгой в тысячу страниц. Пикассо как раз закончил ее
портрет, который в то время никому не нравился кроме самого писавшего и им
изображенной и который так знаменит теперь, и как раз начал свою странную
сложную картину Три Женщины, Матисс как раз закончил Bonheure de Vivre*,
свою первую большую композицию за которую его окрестили диким или зоосадом.
Это было время которое Макс Жакоб позднее назвал героическим веком кубизма.
Помню недавно я слышала как Пикассо и Гертруда Стайн говорили обо всем том
что происходило тогда и кто-то из них сказал, но не могло же все это
произойти за один тот год, ну, ответил другой, вы радость моя забываете мы
были тогда молодые и мы очень много успевали за год.
Можно много рассказать о том что происходило тогда и о том что
происходило перед этим и к этому привело, но теперь я должна описать что же
я увидела по приезде.
Дом на рю де Флерюс 27 состоял тогда как он состоит и теперь из
маленького двухэтажного фли-
* Радость жизни (фр.).
- 13 -
геля с четырьмя крошечными комнатами, кухней и ванной и очень большого
смежного с ним ателье. Теперь ателье и флигель соединяются маленьким крытым
переходом, его пристроили в 1914 году, а тогда вход в ателье был отдельный,
гости звонили в дверь флигеля или стучали в дверь ателье, а очень часто и
стучали и звонили но еще чаще стучали в ателье. У меня было особое право и
стучать и звонить. Меня пригласили на ужин в субботу вечером, это был вечер
когда все приходили, а приходили действительно все. Я пошла на ужин. Ужин
готовила Элен. Нужно сказать несколько слов об Элен. Элен уже два года
служила у Гертруды Стайн и ее брата. Она была из тех замечательных bonnes
иначе говоря хорошей прислуги за все, какие отменно готовят, неусыпно радеют
о хозяйском и о собственном благе и твердо убеждены что все к чему ни
приценись непомерно дорого. Но ведь дорого, был ее ответ на всякий вопрос. У
нее ничего не пропадало а расходы по хозяйству укладывались в неизменные
восемь франков в день. В те же восемь франков, предмет ее гордости, она
хотела включить даже прием гостей, но это конечно было трудно потому что для
поддержания чести дома и в угоду хозяевам ей приходилось всех и всегда
кормить досыта. Она была отменнейшая кухарка и очень хорошо готовила суфле.
В те времена почти все гости жили более или менее случайными заработками,
никто не голодал, кто-нибудь всегда выручал, но почти никто не жил в
достатке. Брак, года четыре спустя когда они все уже начинали становиться
известными, сказал вздохнув
- 14 -
и улыбнувшись, вот как жизнь переменилась, теперь у нас у всех есть
кухарки и все они умеют готовить суфле.
Элен обо всем имела свое мнение, она например не жаловала Матисса. Она
говорила что француз не должен без предупреждения оставаться есть в чужом
доме особенно если он перед тем спросил у прислуги что будет на ужин. Она
говорила что иностранцы имеют полное право так поступать но француз нет, а
Матисс однажды так поступил. Поэтому когда мисс Стайн говорила ей, месье
Матисс останется сегодня на ужин, она отвечала, тогда я не буду готовить
омлет а просто поджарю глазунью. Яиц это столько же и масла столько же а
уважения меньше, и он поймет.
Элен прослужила до конца 1913 года пока ее муж, она к тому времени
вышла замуж и родила ребенка, не запретил ей работать на чужих. Она ушла к
большому для себя сожалению и потом она всегда говорила что дома никогда не
бывает так интересно как на рю де Флерюс. Много позже, года три всего тому
назад, она вернулась еще на год, для них с мужем настали трудные времена а
сын ее умер. Она держалась очень бодро и принимала во всем самое живое
участие. Она говорила, ну не удивительно ли, я знала всех этих людей когда
они были никто, а теперь о них все время пишут в газетах а на днях месье
Пикассо упоминали по радио. Надо же, даже о месье Браке пишут в газетах, а
он, он ведь был самый сильный, обычно держал большие картины которые вешали
пока дворник заколачивал гвозди, и в Лувре, вы только
- 15 -
подумайте, в Лувре, повесят картину этого маленького месье Руссо, а он
такой робкий был, бедняжка, что даже в дверь постучать у него не хватало
духа. Ей было страшно интересно посмотреть на месье Пикассо с женой и
ребенком и она приготовила для него свой самый роскошный ужин, но как он
изменился, сказала она, вообще, сказала она, это наверное естественно а вот
сын у него просто прелесть. Мы считали что на самом деле Элен вернулась
затем чтобы произвести смотр молодому поколению. И она его отчасти произвела
но вот увиденное не произвело на нее впечатления. Она сказала что они не
кажутся ей интересными и все они очень загрустили потому что легенду Элен
знал весь Париж. Через год ее дела стали поправляться, муж стал зарабатывать
больше и с тех пор она сидит дома. Но вернемся к 1907 году.
Прежде чем рассказывать о гостях нужно рассказать что я увидела.
Приглашенная, как я уже говорила, на ужин я позвонила в дверь маленького
флигеля и меня завели в крошечную прихожую а потом в маленькую столовую где
все стены были сплошь заставлены книгами. На дверях, только там оставалось
свободное место, было прикноплено несколько рисунков Пикассо и Матисса.
Другие гости пока не пришли и мисс Стайн провела меня в ателье. В Париже
часто шел дождь и всегда бывало неудобно идти под дождем в вечернем платье
от маленького флигеля до двери ателье но такие вещи не должны были вас
смущать как они не смущали хозяев и гостей большей частью тоже. Мы вошли в
ателье которое отпиралось английским ключом
- 16 -
тогда единственным английским ключом на весь квартал, и это не столько
для безопасности, ведь такие картины в те времена ценности не представляли,
сколько потому что ключ был не огромный, как французские ключи, а маленький
и умещался в кошельке. Вдоль стен кое-где стояла массивная итальянская
мебель эпохи Возрождения и посередине стоял большой стол эпохи Возрождения а
на нем красивый письменный прибор и на краю аккуратная стопка тетрадей,
такие бывают у французских школьников, с изображением землетрясений и
великих географических открытий на обложке. И на всех стенах до самого
потолка висели картины. В одном конце ателье была большая чугунная печка и
Элен пришла и с грохотом кинула в нее угля, а в углу стоял большой стол и на
нем лежали гвозди от лошадиных подков, камушки и маленькие мундштуки которые
вы с любопытством разглядывали но не трогали но которые как потом оказалось
составляли содержимое карманов Пикассо и Гертруды Стайн. Но вернемся к
картинам. Они были такие странные что поначалу вы совершенно непроизвольно
смотрели на все что угодно лишь бы только смотреть не на них. Я освежила
свои воспоминания по моментальным снимкам которые были сделаны тогда в
ателье. Стулья в ателье были тоже все итальянские эпохи Возрождения, не
слишком удобные для тех у кого короткие ноги, так что вырабатывалась
привычка сидеть с ногами. Мисс Стайн сидела возле печки на одном таком
красивом стуле с высокой спинкой и ноги у нее преспокойно свешивались,
главное привычка,
- 17 -
а когда кто-нибудь из многочисленных посетителей подходил к ней и о
чем-нибудь ее спрашивал, она привставала с этого стула и отвечала обычно
по-французски, только не сейчас. Так она обычно говорила когда они хотели
что-нибудь посмотреть, рисунки которые были убраны, какой-то немец однажды
залил один чернилами, или когда желали еще чего-нибудь невозможного. Но
вернемся к картинам. Картины, повторяю, сплошь закрывали все беленые стены с
низу и до самого верху очень высокого потолка. Ателье тогда освещалось
высоко подвешенными газовыми светильниками. Это был второй этап. Светильники
появились совсем недавно. Прежде были только керосиновые лампы и
какой-нибудь рослый гость стоял подняв лампу а остальные смотрели. Но
недавно провели газ, и чтобы развеяться и не думать о рождении первенца
изобретательный американский художник по фамилии Сэйен собирался установить
такое механическое приспособление чтобы светильники зажигались сами. Очень
консервативная старая домовладелица запрещала проводить электричество в
своих домах и электричество провели только в 1914 году, старая домовладелица
была тогда такая старая что уже ничего не понимала и ее управляющий
разрешил. Но на этот раз я действительно расскажу о картинах.
Теперь когда все ко всему привыкли очень трудно дать хотя бы
приблизительное представление о том какого рода беспокойство охватывало вас
при первом взгляде на все эти картины на этих стенах. В те времена там были
картины самого разного
- 18 -
толка, еще не настало время когда они были только Сезанна, Ренуара,
Матисса и Пикассо или, как еще позже, только Сезанна и Пикассо. В то время
Сезанна, Ренуара, Матисса и Пикассо было очень много но других картин было
тоже совсем не мало. Было два Гогена, был Манген, была большая Обнаженная
Валлоттона которая только казалась похожей на Одалиску Мане, был один
Тулуз-Лотрек. Однажды приблизительно в это время Пикассо на него глядя и
отчаянно расхрабрившись сказал, а все равно я на самом деле пишу лучше чем
он. Тулуз-Лотрек больше всех повлиял на его раннее творчество. Потом я
купила крошечную картину Пикассо того периода Был портрет Гертруды Стайн
работы Валлоттона который мог бы быть но не был портретом работы Давида, был
один Морис Дени, небольшой Домье, много акварелей Сезанна, было короче
говоря все, даже маленький Делакруа и средней величины Эль-Греко. Были
громадные картины Пикассо периода цирка, было два ряда Матисса, большой
женский портрет Сезанна и маленькие Сезанны, все эти картины имели свою
историю и скоро я о них расскажу. А тогда я терялась и я смотрела и я
смотрела и я терялась. Гертруда Стайн и ее брат так привыкли к этому
душевному состоянию гостя что они не обращали внимания. Потом в дверь ателье
резко постучали. Гертруда Стайн открыла и вошел маленький темный юркий
человек с очень подвижными волосами, глазами, лицом, руками, ногами.
Здравствуйте Элфи, сказала она, это мисс Токлас. Рад познакомиться с вами
мисс Токлас, очень церемонно отве-
- 19 -
тил он. Это был Элфи Морер, давний завсегдатай дома. Он бывал там еще
тогда когда не было этих картин а были только японские гравюры и он был один
из тех кто светом зажженных спичек освещал кусочек портрета Сезанна. Конечно
понятно что это законченная картина, объяснял он другим американским
художникам которые приходили и выражали молчаливое сомнение, понятно по тому
что она в раме а где это слыхано чтобы холст вставляли в раму если картина
не закончена. Он следовал, следовал, следовал, всегда смиренно всегда
искренне, и это он несколько лет спустя преданно и увлеченно отобрал первую
партию картин для знаменитого собрания Барнса. Это он, когда Барнс потом
появился в доме и стал размахивать чековой книжкой, сказал, Бог свидетель, я
ею не приводил. Однажды вечером Гертруда Стайн пришла домой и застала там
Элфи, своего брата и какого-то незнакомца Лицо незнакомца ей не понравилось.
Это кто, спрашивает она у Элфи. Я его не приводил, отвечает Элфи. На еврея
похож, говорит Гертруда Стайн. Он хуже, говорит Элфи. Но вернемся к тому
первому вечеру. Через несколько минут после прихода Элфи послышался громкий
стук в дверь и голос Элен, прошу к столу. Как странно что нет Пикассо,
сказали они все, но мы ждать не будем, по крайней мере Элен ждать не будет.
И мы вышли во двор и пошли во флигель и в столовую и сели за стол. Как
странно, сказала мисс Стайн, Пабло всегда сама пунктуальность, он никогда не
приходит раньше времени и никогда не опаздывает, он гордится тем что
точность это вежливость
- 20 -
королей, даже Фернанда с ним становится пунктуальной. Конечно он часто
говорит да когда он вовсе не собирается делать то на что согласился, он не
может сказать нет, в его лексиконе нет слова нет и нужно всякий раз
догадываться значит ли его да да или оно значит нет, но когда он говорит да
и оно значит да а он именно так сказал насчет сегодняшнего вечера он всегда
пунктуален. Время автомобилей еще не пришло и никого не волновали дорожные
происшествия. Мы как раз доели первое когда во дворе послышались торопливые
шаги и Элен открыла дверь прежде чем раздался звонок. Вошли, как их все
тогда называли, Пабло и Фернанда. Он, маленький, быстрый но не суетливый, а
глаза со странной способностью широко открываться и впитывать то что он
хотел увидеть. У него был отрешенный вид и движения головы матадора
возглавляющего процессию. Фернанда была высокая красивая женщина в
потрясающей большой шляпе и совершенно явно новом платье, и он и она были
сильно взбудоражены. Мне очень неприятно, сказал Пабло, вы прекрасно знаете
Гертруда что я никогда не опаздываю но Фернанда заказала платье для
завтрашнего вернисажа а его все никак не несли. Во всяком случае вы пришли,
сказала мисс Стайн, на вас Элен сердиться не будет. И все мы сели. Я сидела
рядом с Пикассо, он молчал а потом постепенно пришел в умиротворенное
расположение духа Элфи любезничал с Фернандой и вскоре она стала спокойна и
невозмутима Немного погодя я тихо сказала Пикассо что мне нравится его
портрет Гертруды Стайн. Да, ответил
- 21 -
он, все говорят что она на него не похожа но это совершенно неважно;
когда-нибудь будет похожа, сказал он. Вскоре разговор оживился говорили все
только о дне открытия салона независимых, это было главное событие года.
Всех интересовали все скандалы которые должны были или не должны были
разразиться. Пикассо не выставлялся никогда но его последователи
выставлялись и было очень много историй связанных с каждым последователем,
так что надежды и опасения были бурны.
Когда мы пили кофе во дворе послышались шаги, шаги многих пар ног, и
мисс Стайн встала и сказала, не торопитесь я пока им открою. И ушла.
Когда мы перебрались в ателье там было уже довольно много народу
рассеявшегося там и сям группами, по одному или по двое, и все смотрели и
смотрели. Гертруда Стайн сидела возле печки и говорила и слушала и вставала
чтобы открыть дверь или подойти к разным людям которые кто говорили кто
слушали. Она обычно открывала дверь на стук и обычная условная формула была
такая, dе 1а раrt de qui venez-vous, от кого вы пришли. По идее прийти мог
всякий но как дань условностям даже в Париже нужно иметь условную формулу,
полагалось чтобы всякий мог сослаться на человека который ему сказал. Это
была чистая условность, прийти на самом деле мог всякий но приходили,
поскольку эти картины тогда не ценились а знакомство с теми кто там бывал не
считалось престижным, только те кому было действительно интересно. Так что
всякий мог прийти но тем не менее была условная формула. Как-то раз отрыв
дверь
- 22 -
Стайн спросила как она спрашивала обычно, кто вас пригласил, и мы
услышали как обиженный голос ответил, вы сами меня пригласили, мадам.
Оказалось что это молодой человек с которым она где-то познакомилась и долго
беседовала и которого радушно приглашала заходить но потом так же быстро и
позабыла.
Скоро народу набралось целое ателье но что это все были за люди. Толпы
венгерских художников и писателей, кто-то один раз привел венгра а от него
разошелся слух по всей Венгрии, в любом захолустье если там жил честолюбивый
молодой человек прослышали о рю де Флерюс 27 и он тогда жил единственно с
целью туда попасть, и очень многие из них правда туда попадали. Они бывали
всегда, всех ростов и статей, всех уровней достатка и бедности, одни безумно
обаятельные, другие совсем дремучие, и случалось мелькал иногда какой-нибудь
очень красивый молодой крестьянин. Потом было много немцев, гостей не самых
желанных потому что им всегда хотелось посмотреть именно то что уже убрали и
они всегда норовили что-нибудь разбить, Гертруда Стайн питает слабость к
бьющимся предметам, она не выносит людей которые собирают только небьющееся.
Потом были заметные вкрапления американцев, то Милдред Олдрич приведет
несколько человек, то Сэйен, электрик, то какой-нибудь художник, а иногда
случайно забредал начинающий архитектор, и потом были завсегдатаи, в том
числе мисс Марс и мисс Сквирс которых Гертруда Стайн позднее увековечила в
рассказе о мисс Фер и мисс Скин. В тот первый вечер
- 23 -
мы с мисс Марс обсуждали как красить лицо, совершенно тогда новую тему.
Она интересовалась типами, она знала что женщины делятся на femmes
decoratives, femmes d'interieur и femmes intriguantes*. Фернанда Пикассо
несомненно была femme decorative, а кто же тогда мадам Матисс, femme
d'interieur, ответила я и она осталась очень довольна. Время от времени
слышались высокий похожий на ржание испанский смех Пикассо веселое рокочущее
контральто Гертруды Стайн, приходили одни уходили другие. Мисс Стайн сказала
чтобы я посидела с Фернандой. Фернанда бывала всегда красивая но трудная в
управлении. Я села, это я впервые сидела с женой гения.
Пока я не решила написать эту книгу двадцать пять лет с Гертрудой
Стайн, я часто говорила что напишу о женах гениев рядом с которыми я сидела.
А сидела я с очень многими. Я сидела с ненастоящими женами настоящих гениев.
Я сидела с настоящими женами ненастоящих гениев. Я сидела с женами гениев,
почти гениев, неудавшихся гениев, короче говоря я сидела очень часто и очень
подолгу со многими женами и с женами многих гениев.
Так вот Фернанда, тогда она жила с Пикассо и уже давно то есть им всем
было тогда по двадцать четыре но они давно были вместе, Фернанда была первая
жена гения с которой я сидела и она была совершенно неинтересная. Мы
говорили о шляпах. У Фернанды было две темы, шляпы и духи. В тот
*Красавицы, домоседки и интриганки (фр.).
- 24 -
первый вечер мы говорили о шляпах. Она любила шляпы, к шляпам она
относилась как истинная француженка, если шляпа не давала повода для острот
прохожим на улице это была неудачная шляпа. Потом мы с ней как-то раз вместе
шли по Монмартру. На ней была большая желтая шляпа а на мне голубая и
размеров куда более скромных. Так мы шли и вдруг какой-то мастеровой
остановился и закричал, смотрите вот на пару светят солнце и луна, А-а,
сказала Фернанда с лучезарной улыбкой, видите, у нас удачные шляпы.
Мисс Стайн окликнула меня и сказала что хочет познакомить с Матиссом.
Она разговаривала с человеком среднего роста, с рыжеватой бородой и в очках.
У него несмотря на некоторую полноту была очень энергическая наружность и
казалось что они с мисс Стайн все время обмениваются какими-то скрытыми
намеками. Подойдя ближе я услышала как она сказала, о да но теперь было бы
сложнее. Мы говорили, сказала она, об одном обеде который мы здесь устроили
в прошлом году. Мы просто повесили все картины и пригласили всех художников.
Знаете что за люди художники, я хотела доставить им удовольствие ну и я
усадила каждого перед его картиной, и они были довольны так довольны что нам
пришлось посылать за хлебом еще два раза, когда вы лучше узнаете Францию вы
поймете это значит они были довольны, без хлеба они не могут ни есть ни пить
и нам пришлось два раза посылать за хлебом так они были довольны. Моей
небольшой уловки не заметил никто кроме Матисса да и он заметил только
- 25 -
тогда когда уходил, а теперь говорит это доказательство того что я
очень злая. Матисс рассмеялся и сказал, да я знаю мадемуазель Гертруда, мир
для вас это театр, но есть театры и театры, и когда вы меня слушаете так
участливо и так внимательно и не слышите ни единого слова из того что я
говорю вот тогда я и говорю что вы очень злая. Потом они как и все остальные
стали говорить о вернисаже независимых а я конечно совершенно не понимала
что к чему. Но со временем я все-таки поняла и я еще расскажу о картинах, об
их создателях и их подражателях и о том что значил весь этот разговор.
Потом я оказалась рядом с Пикассо, он стоял в размышлении. Как вы
думаете, спросил он, похож я на вашего президента Линкольна. В тот вечер я
много что думала но я не думала этого. Понимаете, продолжал он, Гертруда (не
могу даже приблизительно передать с какой искренней теплотой и доверием он
всегда произносил ее имя а она всегда говорила Пабло. За всю их долгую
дружбу, при всех ее иногда тревожных поворотах и всех ее сложностях, никогда
не бывало иначе), Гертруда однажды показала мне его фотографию и с тех пор я
стараюсь причесываться как он, по-моему у меня похожий лоб. Я не поняла
серьезно это он или нет но слушала сочувственно. Тогда я еще не знала
насколько Гертруда Стайн целиком и полностью американка. Потом я часто
дразнила ее генералом, генералом гражданской войны все равно какой из сторон
или обеих сразу. У нее была подборка фотографий времен гражданской войны,
- 26 -
льно поразительных фотографий, и они с Пабло подолгу их рассматривали.
А потом он вдруг вспоминал испанскую войну и делался очень жестоким и очень
испанцем, и Испания и Америка в их лице могли сказать друг о друге очень
жестокие вещи. Но в тот мой первый вечер я ни о чем об этом не знала и
просто вежливо слушала вот и все.
А вечер приближался к концу. Все расходились и все по-прежнему говорили
о вернисаже независимых. Я тоже ушла с пригласительным билетом на вернисаж.
И так этот вечер, один из самых важных вечеров в моей жизни, закончился.
На вернисаж я пошла с приятельницей, потому что приглашение у меня было
на двоих. Мы пошли очень рано. Мне сказали что нужно пойти пораньше а иначе
ничего не увидишь и не останется мест чтобы сидеть, а приятельница любила
сидеть. Мы пошли в здание как раз построенное для этого салона. Во Франции
всегда что-нибудь строят на день-два к определенному дню а потом опять
разбирают. Старший брат Гертруды Стайн всегда говорит что секрет
хронического отсутствия безработицы или полной занятости во Франции
заключается в том сколько рабочих активно занято на строительстве и разборке
временных зданий. Человеческая природа так постоянна во Франции что они
могут иметь такие временные какие им заблагорассудится здания. Мы вошли в
длинное низкое безусловно очень очень длинное временное здание которое
каждый год строили для независимых. Когда не то после войны не то перед
самой войной, точно не помню, независимым дали по-
- 27 -
стоянное помещение в большом выставочном здании, Гран Пале, было уже
совсем не так интересно. Главное в конце концов неизведанность. Длинное
здание красиво светилось парижским светом.
В более ранние, в еще более ранние времена, во времена Сера, у
независимых устраивались выставки в здании которое заливало в дождь. Ведь
именно потому, при развешивании картин под дождем, простудился и умер
несчастный Сера. Но теперь дождь не лил, был чудесный день и у нас было
очень праздничное настроение. Пришли мы и в самом деле так рано как только
было можно и первыми. Мы ходили из зала в зал и честно говоря мы не имели ни
малейшего представления о том какие картины в той субботней компании
считались бы искусством а какие просто упражнениями, как их называют во
Франции, воскресных художников, рабочих, парикмахеров, ветеринаров и
визионеров которые пишут только один день в неделю когда они не работают. Я
говорю мы не понимали но нет наверное понимали. Но не насчет Руссо, а там
была огромная и самая скандальная на выставке картина Руссо, это была
картина с изображением государственных чиновников, теперь она принадлежит
Пикассо, нет в этой картине мы не могли распознать картину которая станет
одной из великих и, как потом скажет Элен, со временем окажется в Лувре. Еще
если мне память не изменяет была там странная картина того же таможенника
Руссо, как бы апофеоз Гийома Аполлинера с пожилой Мари Лорансен в виде музы.
И ее я бы точно не отнесла к настоящим произведе-
- 28 -
ние искусства. Тогда конечно я ничего не знала о Гийоме Аполлинере и
Мари Лорансен но о них я отдельно расскажу потом. Затем мы пошли дальше и
увидели Матисса Вот когда мы стали понемногу осваиваться. Матисса мы всегда
узнавали, узнавали сразу и любили, и понимали что это великое искусство и
что это прекрасно. Это была большая женская фигура возлежащая среди
кактусов. Картина которая после выставки должна была перекочевать на рю де
Флерюс. И однажды пятилетний сынишка дворника который часто наведывался к
Гертруде Стайн которая его очень любила, залез к ней на руки когда она
стояла у открытой двери ателье и глядя ей через плечо и видя картину
закричал, о-ла-ла, какое прекрасное женское тело. Мисс Стайн всегда
рассказывала эту историю когда случайный незнакомец с напористостью
случайного незнакомца спрашивал, глядя на эту картину, а что на ней
собственно изображено.
В том же самом зале что и Матисс, висел, немного заслоненный
перегородкой, венгерский вариант той же самой картины в исполнении некоего
Цобеля которого я вспомнила что видела на рю де Флерюс, это был счастливый
независимый обычай помещать картину неистового последователя против картины
неистового, но не столь же неистового мастера
Мы шли и шли, было очень много залов и в залах очень много картин и в
конце концов мы пришли в центральный зал и там была садовая скамейка а
публики прибавлялось и прибавлялось так что мы сели на скамейку отдохнуть.
- 29 -
Мы отдыхали и всех рассматривали, и это правда была vie de Bohème *,
прямо как я видела в опере, и смотреть на них было одно удовольствие. Вдруг
кто-то подошел к нам сзади обнял за плечи и рассмеялся. Это была Гертруда
Стайн. Вы отлично сидите, сказала она. Почему, спросили мы. Потому что прямо
напротив вас самое главное. Мы стали смотреть но ничего не увидели кроме
двух больших картин, вполне похожих но не вполне одинаковых. Одна это Брак а
другая Дерен, пояснила Гертруда Стайн. Это были странные картины е
изображением странных фигур составленных как бы из деревяшек, одна если я
правильно помню изображала, нечто вроде мужчины и женщины, другая нечто
вроде трех женщин. Ну как, спросила она продолжая смеяться. Мы не знали что
ответить, мы уже видели столько странного что нам было непонятно чем же эти
две страннее других. Она быстро исчезла в оживленной и говорливой толпе. Мы
узнали Пабло Пикассо и Фернанду, нам казалось что мы узнали и много кого
еще, всех конечно интересовал по-видимому наш угол и мы там остались, но нам
было непонятно что же их так особенно интересует. Некоторое время спустя
Гертруда Стайн подошла опять и на этот раз явно еще более оживленная и
довольная. Она наклонилась к нам и деловым тоном спросила, вы не хотите
брать уроки французского. Мы замялись, да, мы могли бы брать уроки
французского. Ну так давать уроки французского вам будет Фернанда, найдите
* Жизнь богемы (фр).
- 30 -
ее и скажите как вы безумно жаждете брать уроки французского. Но почему
она должна давать уроки французского спросили мы. Потому, ну потому что они
с Пабло решили расстаться навсегда. Такое по-моему бывало и раньше но не на
моей памяти. Знаете Пабло говорит, если любишь моем женщину отдаешь ей
деньги. Теперь он говорит так, если хочешь оставить женщину приходится ждать
пока сможешь ей дать достаточно много денег. Воллар только что купил у него
целую мастерскую так что средства ему позволяют с нею расстаться отдав ей ее
половину. Она хочет снять себе комнату и жить себе давая уроки французского,
вот при чем здесь вы. Ну а какое это имеет отношение к тем двум картинам,
спросила моя неизменно любопытная приятельница. Никакого, ответила
расхохотавшись Гертруда Стайн.
Я еще расскажу эту историю целиком как она стала мне позднее известна
но сейчас я должна была найти Фернанду и предложить, ей брать у нее уроки
французского.
Я немного побродила и посмотрела на публику, никогда я прежде не думала
что существует так много разных мужчин которые рисуют и рассматривают
картины. На выставках картин в Америке, даже в Сан-Франциско, я привыкла
видеть женщин и отдельных мужчин, здесь же были мужчины, мужчины, мужчины,
иногда с женщинами но чаще трое-четверо мужчин с одной женщиной или
пятеро-шестеро мужчин с двумя. Позднее к этому соотношению я привыкла. В
одной такой группе из пяти-шести мужчин и двух женщин я
- 31 -
увидела обоих Пикассо, вернее сперва я увидели Фернанду с поднятым
вверх указательным пальцем в кольце, характерным для нее жестом. У нее, как
выяснилось потом, указательный палец был как у Наполеона, одной длины со
средним если не чуть-чуть длиннее, и этот палец, когда Фернанда бывала
оживлена, а она была томная и потому бывала оживлена не очень-то часто,
всегда поднимало; вверх. Я ждала не решаясь вторгаться в эту группу скрытыми
центрами которой были с одного конца она а с другого Пикассо но все же
собралась с духом, подошла, отозвала ее в сторону и сообщила, о своем
желании. Да да, любезно сказала она, Гертруда говорила мне о вашем желании,
я с большим удовольствием буду давать вам уроки, вам и вашей приятельнице, в
ближайшие несколько дней я очень занята устройством на новой квартире
Гертруда зайдет ко мне в конце недели и если бы вы с приятельницей пришли
вместе с ней мы бы тогда могли обо всем договориться. Фернанда изъяснилась
очень изысканным французским, временами, конечно, сбиваясь на монмартрский
жаргон который я понимала плохо, но она была учительница по образованию, у
нее был приятный голос и она была очень очень красивая и цвет лица у нее был
прекрасный. Она была крупная но томная и поэтому не очень крупная и у нее
были маленькие округлые руки которые придают всем француженкам характерную
красоту. Было довольно жалко что стали носить короткие юбки потому что до
тех пор никто не думал о мощных французских ногах типичной француженки,
думали только о
- 32 -
красоте маленьких округлых ручек. Я согласилась на предложение Фернанды
и отошла.
Пока я шла обратно к приятельнице я начала привыкать не столько к
картинам сколько к людям Я стала в них замечать определенную однотипность.
Много лет спустя, то есть всего несколько лет тому назад, когда умер горячо
всеми нами любимый Хуан Грис (он был самым дорогим другом Гертруды Стайн
после Пабло Пикассо), я слышала как она спросила у Брака, они стояли рядом
на похоронах, кто все эти люди, их так много и у всех такие знакомые лица а
я никого не знаю по имени. Ну как же, ответил Брак, это все люди которых вы
обычно видели на вернисаже у независимых и в осеннем салоне, и два раза в
год, год за годом, вы видели их лица, потому они такие знакомые.
Десять дней спустя мы с Гертрудой Стайн впервые пошли на Монмартр.
Потом я никогда не переставала его любить. Мы ходим туда время от времени и
меня всякий раз охватывает то же трепетное ожидание что тогда. Это место где
всегда стояли а иногда ждали, ждали не то чтобы происшествий а просто пока
стояли. Жители Монмартра мало сидели, они больше стояли а это было все едино
потому что стулья, стулья столовых Франции, не вызывали большого желания
долго сидеть. Итак я пошла на Монмартр и начала брать уроки стояния. Сперва
мы пошли к Пикассо а потом мы пошли к Фернанде. Теперь Пикассо вообще не
любит бывать на Монмартре, он не любит думать о нем и тем более о нем
говорить. Даже с Гертру-
- 33 -
дой Стайн он говорит о нем неохотно, что-то тогда глубоко уязвило его
испанскую гордость, конец его монмартрской жизни был исполнен горечи и
разочарования, а нет ничего горше испанского разочарования.
Но в то время он жил на Монмартре и жизнью Монмартра и занимал
мастерскую на рю Ра-виньян.
Мы дошли пешком до Одеона и там сели в омнибус, вернее поднялись на
крышу омнибуса, милые старые конные омнибусы, они очень быстро и исправно
ходили по всему Парижу и вверх по холму к Плас Бланш. Там мы вышли и
поднялись круто вверх по рю Лепик, где по обе стороны были лавки где
торговали съестным, а затем завернули за угол и поднялись еще выше и еще
круче на самом деле почти отвесно и вышли на рю Равинь-ян, теперь Плас
Эмиль-Гондо но в остальном такую как прежде, с ее лестницей ведущей к
маленькому скверику с его редкими но трепетными деревцами, а в углу скверика
сидел человек и что-то строгал, когда я была там в последний раз совсем
недавно в углу по-прежнему сидел человек и что-то строгал, и с маленьким
кафе внизу возле лестницы где все они ели, оно там по-прежнему есть, и
низким деревянным зданием с мастерскими по левую руку которое там
по-прежнему есть.
Мы поднялись на несколько ступенек вверх и вошли в открытую дверь
оставив слева ту мастерскую где позднее пережил свое мученичество Хуан Грис
а тогда жил некто Вайян, малопримечательный живописец у которого в
мастерской устроят
- 34 -
дамский гардероб во время знаменитого банкета в честь Руссо, а потом
оставили позади крутую лестницу ведущую вниз туда где немного позже была
мастерская у Макса Жакоба, а потом еще одну маленькую крутую лестницу
ведущую в мастерскую где незадолго перед тем некий юноша покончил с собой а
Пикассо написал одну из своих самых замечательных ранних картин где друзья
собрались у гроба, все это мы оставили позади на пути к большой двери куда
Гертруда Стайн постучала. Пикассо открыл дверь и мы вошли.
Он был одет в то что у французов называется костюм singe то есть
обезьяний, комбинезон из плотной хлопчатобумажной ткани, синей или
коричневой, у него кажется был синий а называется он singe или обезьяна
потому что он цельнокроеный и с поясом и пояс если он не застегнут, а не
застегнут он очень часто, болтается сзади и получается обезьяна. Глаза у
него были еще удивительнее чем мне запомнилось, такие выпуклые и такие
карие, и такие смуглые и изящные и быстрые руки. Мы прошли дальше. В одном
углу была кушетка, в другом крошечная печка, она же кухонная плита, были
стулья, тот большой сломанный стул на котором сидела Гертруда Стайн когда он
ее писал, всюду пахло собакой и красками и была большая собака и Пикассо ее
двигал с места на место как комод или шкаф. Он предложил нам сесть но
поскольку все стулья были чем-то завалены мы остались стоять и стояли пока
не ушли. Это был мой первый опыт стояния но потом оказалось что они так
стоят часами. К стене была прислонена огром-
- 35 -
ная картина, странная картина написанная светлыми и темными красками,
больше ничего о ней сказать не могу, с изображением группы людей, огромной
группы, а рядом была другая, красновато-коричневая, с изображением трех
женщин, угловатых и в вывернутых позах, выглядело все это вместе довольно
жутко. Пикассо и Гертруда Стайн стояли рядом и разговаривали. Я стояла
немного поодаль и смотрела. Не могу сказать что я что-нибудь понимала но я
чувствовала в этом что-то мучительное и прекрасное и что-то давящее но
захватывающее. Я услышала как Гертруда Стайн сказала, а моя. Тогда Пикассо
достал картину поменьше, сильно недописанную картину которую и нельзя было
дописать, очень бледную почти белую, две фигуры, у них все было но очень
недописанное и не поддающееся дописанию. Пикассо сказал, но он никогда такое
не возьмет. Да, я знаю, ответила Гертруда Стайн. И все равно только в ней
все есть. Да, я знаю, ответил он и они замолчали. Дальше они говорили
вполголоса а потом мисс Стайн сказала, ну нам надо идти, мы идем на чай к
Фернанде. Да, я знаю, отозвался Пикассо. Вы часто видитесь, спросила она, он
сильно покраснел и смутился. Я ни разу у нее не был, задетым тоном ответил
он. Она усмехнулась, ну мы во всяком случае к ней идем и мисс Токлас будет
брать уроки французского. Ох уж эта мисс Токлас, сказал он, ножки как у
испанки, серьги как у цыганки а отец польский король как Понятовские, еще бы
ей не брать уроки. Мы все засмеялись и пошли к выходу. У двери стоял очень
красивый человек, а Ахеро, сказал
- 36 -
Пикассо, вы знакомы с дамами. Он как с картины Эль Греко, сказала я
по-английски. Пикассо уловил имя, поддельного Эль Греко, сказал он. Да чуть
не забыла вам отдать сказала Гертруда Стайн протягивая ему пачку газет, это
вас утешит. Он их раскрыл, это были воскресные приложения к американским
газетам, это были малыши Катценьяммер. Оh oui, оh oui* сказал он с очень
довольным видом, merci, спасибо Гертруда, и мы ушли.
Мы ушли и стали подниматься дальше вверх по холму. Как вам показалось
то что вы видели, спросила мисс Стайн. Ну кое-что я правда увидела. Увидеть
увидели, но вы увидели какое это имеет отношение к тем двум картинам
напротив которых вы так долго сидели на вернисаже. Только такое что у
Пикассо картины довольно жуткие а те нет. Еще бы, сказала она, как Пабло
однажды заметил, если что-то делаешь делать так сложно что обязательно
выходит уродливо, а тем кто делают то же самое вслед за тобой им не надо
терзаться над тем как это делать и они могут делать красиво, вот это и
нравится всякому когда это делают другие.
Мы шли прямо а потом свернули в маленькую улочку и там опять стоял
маленький домишко и мы спросили мадемуазель Бельвалле и нам сказали пройти
по маленькому коридорчику и мы постучали и вошли в небольшую комнату где
была очень широкая кровать пианино маленький чайный столик Фернанда и еще
две дамы.
* Да, да (фр.)
- 37-
Одна была Алиса Принсе. С виду она была прямо-таки мадонна, большие
красивые глаза и прелестные волосы. Фернанда потом разъяснила что у нее отец
рабочий и грубые большие пальцы характерные конечно же для рабочих. Она, так
разъяснила Фернанда, семь лет прожила с Принсе, государственным служащим, и
была ему верна на монмартрский манер, то есть делила с ним радость и горе но
попутно развлекалась на стороне. Теперь они собирались пожениться. Принсе
стал начальником в своем небольшом департаменте на государственной службе и
ему придется приглашать к себе домой других начальников департаментов так
что конечно он должен узаконить их отношения. Действительно они поженились
через несколько месяцев и как раз по случаю их бракосочетания Макс Жакоб
произнес свои знаменитые слова, семь лет желать женщину и наконец овладеть
ею, это прекрасно. Пикассо высказался более прозаически, какой смысл
жениться только чтобы развестись. Он оказался пророком.
Едва они поженились как Алиса Принсе встретила Дерена, а Дерен встретил
ее. Это был, как говорят французы, un соup dе foudre, иначе говоря любовь с
первого взгляда. Оба совершенно потеряли голову. Принсе сначала терпел но
теперь они были женаты и это меняло дело. Вдобавок впервые в жизни он
рассердился и в сердцах порвал первую Алисину шубу которую она себе купила к
свадьбе. Все таким образом разрешилось, и не прожив в браке с Принсе даже
полугода Алиса оставила его навсегда. Она ушла к Дерену и с тех пор
- 38-
они не расстаются. Мне всегда нравилась Алиса Дерен. В ней
чувствовалась некая необузданность которая возможно была связана с ее
грубыми большими пальцами и находилась у нее в любопытном соответствии с
ликом мадонны.
Вторая была Жермена Пишо, женщина совершенно иного типа Эта была
серьезная спокойная испанка, с прямыми плечами и застывшим невидящим
взглядом испанки. Она была очень добрая. Она была замужем за испанским
художником Пишо, а он был создание весьма поразительное, он был худой и
длинный наподобие какого-нибудь примитивного изображения Христа в испанских
церквах, и когда он танцевал испанский танец а он его танцевал позднее на
знаменитом банкете в честь Руссо, он проникался наводящей ужас
религиозностью.
Жермена, по словам Фернанды, была героиней многих странных историй.
Как-то раз она отвезла в больницу молодого человека, он пострадал в драке в
мюзик-холле а товарищи его бросили. Жермена понятно оказалась тут как тут и
не дала ему пропасть. У нее было много сестер, и она и сестры родились и
выросли на Монмартре и все были от разных отцов и замужем за мужьями разных
национальностей, некоторые даже за турками и армянами. Жермена, гораздо
позже, много лет тяжело болела и ее всегда окружали преданные друзья. Они
носили ее в кресле в ближайший кинотеатр и они, и она сидя в своем кресле,
смотрели всю программу от начала и до конца. Они регулярно это проделывали
один раз в неделю. Полагаю они это проделывают до сих пор.
- 40-
Беседа у Фернанды за чаем протекала не очень оживленно, говорить было
особенно не о чем. Было очень приятно познакомиться, это даже была большая
честь, но вот пожалуй и все. Фернанда немного посетовала на то что
приходящая прислуги плохо вытерла и вымыла чайный сервиз и на то что покупка
кровати и пианино в рассрочку имеет свои неприятные стороны. И больше всем
нам было действительно не о чем говорить.
Наконец мы условились об уроках французского, я должна была платить
пятьдесят центов в час а она должна была прийти ко мне через два дня и мы
должны были начать. Ближе к концу визита они сделались непринужденнее.
Фернанда спросила у мисс Стайн не осталось ли у нее комических приложений к
американским газетам, Гертруда Стайн ответила что она только что отдала их
Пабло.
Фернанда взвилась как львица защищающая своих детенышей. Это такое
свинство которого я никогда ему не прощу, сказала она. Я встречаю его на
улице, он держит комическое приложение, я прошу дать мне его почитать чтобы
отвлечься а он по-свински отказывается. Это было настолько жестоко что я
никогда не прощу. Пожалуйста, Гертруда, когда у вас будут следующие номера
комических приложений отдайте их прямо мне. Гертруда Стайн ответила,
непременно, с удовольствием.
Когда мы вышли она сказала, будем надеяться что к тому времени когда
выйдут следующие номера комических приложений Малыши Катценъ-
- 41-
яммер они снова будут вместе потому что если я не отдам их Пабло он
ужасно расстроится а если дам то Фернанда закатит страшный скандал. Наверное
придется их потерять или брату придется по ошибке отдать их Пабло.
Фернанда довольно точно пришла к назначенному часу и мы приступили к
уроку. Чтобы получился урок французского нужно конечно беседовать а у
Фернанды было три темы, шляпы, нам уже почти нечего было сказать о шляпах,
духи, нам было что сказать о духах. На духи Фернанда транжирила деньги
действительно безо всякого удержу, она оскандалилась на весь Монмартр тем
что однажды купила флакон духов под названием Дым и отдала за него
восемьдесят франков тогда шестнадцать долларов а духи совершенно не пахли но
зато были такого чудного цвета, настоящий жидкий дым налитый в флакон.
Третьей ее темой были сорта мехов. Меха бывали трех сортов, был первый сорт,
соболя, второй сорт, горностай и шиншилла и третий сорт, рыжая лиса и белка.
Это было самое удивительное из всего что я слышала в Париже. Я удивилась.
Шиншилла второй, белку называют мехом а котика нет.
В остальном наши беседы сводились к описанию модных тогда пород собак и
выяснению их названий. Это была моя тема и после каждого моего описания она
задумывалась, ах да, просияв, говорила она, вы хотите описать маленькую
бельгийскую собачку которая называется грифон.
Так это и шло, она была очень красивая но выходило несколько
утомительно и однообразно и
- 42-
я предложила встречаться в городе, где-нибудь в кафе, или гулять по
Монмартру. Она стала кое-что мне рассказывать. Я познакомилась с Максом
Жакобом. Он и Фернанда выглядели вместе ужасно забавно. Они мнили себя
галантной парой времен первой империи, он был 1е vieux marquis*, который
целует ручку и говорит комплименты а она императрица Жозефина которая
благосклонно ему внимает. Это была карикатура но карикатура весьма
замечательная. Потом она рассказала мне о страшной загадочной женщине по
имени Мари Лорансен которая издает утробные звуки как какое-нибудь животное
и выводит из себя Пикассо. Она представлялась мне страшной старухой и когда
я познакомилась со стильной молодой Мари похожей на женщин Клуэ она меня
совершенно очаровала. Макс Жакоб прочитал мне мой гороскоп. Это была большая
честь потому что он сам его переписал. Я не поняла этого тогда но поняла
после и особенно в последнее время, когда всех юных джентльменов которые
сейчас так восхищаются Максом очень изумляет и поражает то что мой он
расписал потому что всегда считалось что он их никогда не расписывает а
просто сразу говорит. Во всяком случае мой у меня есть и он расписан.
Еще она рассказывала много странных историй о Ван-Донгене, о его
голландской жене и голландской дочке. Слава Ван-Донгена началась с одного
портрета который он написал с Фернанды.
* старый маркиз (фр.)
- 42-
потом были в такой моде. Но у Фернанды глаза были миндалевидные от
природы, к счастью или к несчастью у Фернанды все было от природы.
Ван-Донген конечно же отрицал что эта картина была портретом Фернанды
хотя она ему и позировала, и по этому поводу изливалось много яду.
Ван-Донген в то время бедствовал, у него была голландская жена-вегетарианка
и питались они только шпинатом. Ван-Донген часто сбегал от шпината в
какое-нибудь заведение на Монмартре где он ел и пил на деньги девиц.
Ван-донгеновской крошке было четыре года но она была потрясающая.
Ван-Донген занимался с ней акробатикой и крутил ее над головой взяв за ногу.
Всякий раз когда она стискивала в объятиях горячо ею любимого Пикассо она
душила его чуть ли не до смерти, он безумно ее боялся.
Было еще много других легенд о Жермене Пишо и о цирке где она
знакомилась со своими любовниками и были легенды о настоящем и прошлом
Монмартра. У самой Фернанды был один идеал. Это была Эвелина Тоу, героиня
дня. И Фернанда боготворила ее как следующее поколение боготворило Мэри
Пикфорд, она была такая белокурая, такая бледная, такая невесомая, и
Фернанда испускала тяжкий вздох восхищения.
Когда мы снова увиделись с Гертрудой Стайн она вдруг спросила, ходит ли
Фернанда в серьгах. Не знаю, сказала я. Обратите внимание, сказала она.
Когда мы снова увиделись с Гертрудой Стайн я сказала, да Фернанда ходит в
серьгах. Ну ладно, сказала она, пока что ничего не поделаешь, какая
- 43-
досада, ведь у Пабло в мастерской никого нет и ему естественно не
сидится дома. Неделю спустя я смогла объявить что Фернанда ходит без серег.
Ну ладно, тогда все в порядке, у нее кончились деньги и все позади, сказала
Гертруда Стайн. И все было правда позади. Неделю спустя я обедала с
Фернандой и Пабло на рю де Флерюс.
Я подарила Фернанде китайскую юбку из Сан-Франциско а Пабло подарил мне
прелестный рисунок.
А теперь я вам расскажу как две американки оказались в центре одного
художественного течения о котором внешнему миру в то время было ничего
неизвестно.
- 44-
Часть третья. ГЕРТРУДА СТАЙН В ПАРИЖЕ 1903-1907
Два последние курса Гертруды Стайн на медицинском факультете
университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, с 1900 по 1903 год, ее брат жил во
Флоренции. Там он услышал о художнике по имени Сезанн и увидел его картины у
Чарльза Лессера. Когда они с сестрой на следующий год обосновались в Париже,
они пошли к Воллару, только он продавал картины Сезанна, их смотреть.
Воллар был огромный, черноволосый и слегка шепелявил. Его лавка была на
рю Лафит недалеко от бульвара. Дальше по той же короткой улице был
Дюран-Рюэль а еще дальше почти у церкви Мучеников галерея бывшего клоуна
Саго. Выше по Монмартру на рю Виктор Массе был магазин мадемуазель Вейль, у
нее продавались книги, картины и безделушки, и совершенно в другой части
Парижа, на рю Фобур Сент Оноре, магазин бывшего хозяина кафе и фотографа
Дрюэ. Еще на рю Лафит была кондитерская Фуке где можно было утешиться
прекрасными медовыми кексами и засахаренными орехами и вместо картины иногда
покупать земляничное варенье в стеклянной вазочке.
Первый визит к Воллару произвел на Гертруду Стайн неизгладимое
впечатление. Это было фантастическое заведение. Оно не было похоже на
картинную галерею. Два-три холста были повернуты
- 47-
лицевой стороной к стене, в углу лежала маленькая горка холстов, и
больших и маленьких, вперемешку сваленных один на другой, а посередине с
хмурым видом стоял огромный черноволосый человек. Это был Воллар в хорошем
расположении духа. Когда он был действительно в дурном расположении духа, то
раскинув руки над головой и ухватившись за верхние углы косяка, он
прислонялся своим огромным телом к стеклянной двери которая выходила на
улицу и мрачно хмурясь смотрел на улицу. В такое время никто не делал
попыток к нему зайти.
Они попросили показать им Сезанна. Вид у него стал менее хмурый и он
сделался очень учтив. Сезанн, как они узнали потом, был большой любовью всей
жизни Воллара. Имя Сезанн для него было волшебным словом. Он узнал о Сезанне
от художника Писарро. Писарро действительно был тем человеком от которого
все первые поклонники Сезанна узнали о Сезанне. Мрачный и ожесточенный
Сезанн в то время жил в Экс-ан-Провансе. Писарро рассказал о нем Воллару,
рассказал Фабри, Флорентийцу, а тот рассказал Лессеру, рассказал Пикабиа,
рассказал по существу всем кто тогда знал о Сезанне.
Из картин Сезанна у Воллара было на что посмотреть. Позднее Гертруда
Стайн написала стихотворение под названием Воллар и Сезанн а Генри Мак Брайд
напечатал его в Нью-Йорк Сан. У Гертруды Стайн это было первое сочинение на
случай которое так напечатали и как ей так и Воллару это доставило огромное
удовольствие. Когда
- 48-
Воллар потом написал по предложению Гертруды Стайн книгу о Сезанне
Воллар послал ее Генри к Брайду. Она сказала Воллару что его книге посвятят
целую страницу в какой-нибудь крупной ежедневной нью-йоркской газете. Он не
поверил, Париже ничего подобного ни с кем не случалось. С ним случилось и он
был ужасно растроган и несказанно рад. Но вернемся к первому визиту.
Они сказали господину Воллару что хотели бы посмотреть пейзажи Сезанна,
они пришли по рекомендации г-на Лессера из Флоренции. Да, да, сказал Воллар,
очень оживился и стал расхаживать взад и вперед, в конце концов он исчез за
перегородкой в глубине и стало слышно как он тяжело поднимается по лестнице.
После довольно длительного отсутствия он спустился и в руках у него была
маленькая картина с изображением яблока и незаписанной большей частью
холста. Все трое внимательно ее рассмотрели а потом сказали, да, но
понимаете мы-то хотели посмотреть пейзаж. Ах да, вздохнул Воллар все более
оживляясь, через минуту он опять исчез и на этот раз вернулся с картиной на
которой изображалась спина, картина была прекрасная в этом нет никаких
сомнений но брат и сестра еще были не способны в полной мере оценить
обнаженных Сезанна и возобновили атаку. Они хотели посмотреть пейзаж. На
этот раз после еще более длительного отсутствия Воллар вернулся с очень
большим холстом и написанным на нем очень маленьким кусочком пейзажа.
Вот-вот, сказали они, пейзаж, но они-то хотят холст поменьше но записанный
целиком. Они, сказали
- 49-
они, хотели бы наверное посмотреть какой-нибудь именно такой холст. Уже
сгущался ранний зимний парижский вечер, и в эту минуту по той же самой
задней лестнице спустилась старая-престарая служанка, прошамкала, bon soir,
monsier et madame*, и тихо вышла, а еще через минуту по той же самой
лестнице спустилась другая старая служанка, прошамкала, bon soir, monsier et
mesdames, и тихо вышла. Гертруда Стайн стала смеяться и сказала брату, это
все глупости, Сезанна нет, Воллар ходит наверх и говорит старухам что
рисовать, он не понимает нас, они не понимают его, они что-нибудь нарисуют
он несет вниз и это и есть Сезанн. Оба начали безудержно хохотать. Потом
они успокоились и еще раз объяснили про пейзаж. Они сказали что им хочется
какой-нибудь из тех замечательно желтых солнечных окских пейзажей каких есть
несколько примеров у Лессера. Воллар опять ушел и на этот раз вернулся с
чудесным маленьким зеленым пейзажем. Пейзаж был прелестный, он занимал весь
холст, он стоил недорого и они купили его. Воллар потом всем рассказывал что
к нему приходили двое сумасшедших американцев и они смеялись и сильно его
раздражали но постепенно он понял что когда они очень сильно смеются то
потом обычно что-нибудь покупают и конечно он подождал пока они кончат
смеяться.
С этого времени они стали все время ходить к Воллару. Вскоре они
получили право разбирать его
* Добрый вечер, месье и мадам (фр.)
- 50-
горы холстов и искать в этой свалке то что им нравится. Они купили
очень маленького Домье, голову старухи. Они заинтересовались обнаженной
натурой Сезанна и в итоге купили два очень маленьких полотна с группами
обнаженных. Они нашли очень очень маленького черно-белого Мане с Фореном на
переднем плане и купили его, нашли двух очень маленьких Ренуаров. Часто они
покупали по две картины сразу потому что кому-то больше нравилась одна а
кому-то другая, и так прошел год. Весной Воллар устроил выставку Гогена и
они впервые увидели картины Гогена. Картины были довольно ужасные но потом
все-таки им понравились и они купили двух Гогенов. Гертруде Стайн подсолнухи
у него нравились а люди нет, а брат отдавал предпочтение как раз людям.
Сейчас кажется что это были безумные деньги но все это в те времена стоило
недорого. И так шла зима.
Посетителей у Воллара бывало не очень много но однажды Гертруда Стайн
слышала там один разговор от которого она получила огромное удовольствие.
Дюре был в Париже известной фигурой. Тогда он был очень стар и очень красив.
В свое время он дружил с Уистлером, Уистлер изобразил его во фраке с белым
оперным плащом перекинутым через руку. У Воллара он беседовал с несколькими
молодыми людьми и один из них, Руссель, из группы Вюйллара-Боннара, бывших
импрессионистов, пожаловался что он и его друзья не имеют признания, им даже
не дают выставляться в салоне. Дюре ласково на него посмотрел, мой юный
друг, сказал он, есть два вида искусства, никогда не
- 51-
забывайте об этом, есть искусство и есть официальное искусство. Как же
вы, мой бедный юный друг, можете надеяться войти в официальное искусство. Да
вы только на себя посмотрите. Предположим какая-нибудь важная персона
приезжает во Францию и хочет познакомиться с представителями искусства и
заказать свой портрет. Мой дорогой юный друг, вы только на себя посмотрите,
важная персона придет в ужас от одного вашего вида. Вы милый молодой
человек, воспитанный и умный, но на важное лицо вы произведете совсем
другое, ужасное впечатление. Нет, в качестве представителя искусства им
нужен человек среднего роста с брюшком, одетый не слишком шикарно а так как
одеваются в его кругу, не лысый и не прилизанный, и чтобы почтительно
кланялся. Теперь вы сами понимаете что вы не годитесь. Так что не говорите
об официальном признании а если заговорите то посмотрите в зеркало и
вспомните о важных персонах. Нет, мой дорогой юный друг, есть искусство и
есть официальное искусство, так всегда было и будет.
Еще до конца зимы, зайдя так далеко, Гертруда Стайн и ее брат решили
идти еще дальше, они решили купить большого Сезанна и на этом остановиться.
Потом они будут более благоразумны. Они убедили старшего брата что это трата
последняя и просто необходима, и она, как скоро станет очевидно, была
правда необходима. Они сказали Воллару что хотят купить большой портрет
Сезанна. Из больших портретов Сезанна в то время не был продан практически
ни один. Почти все
- 52-
принадлежали Воллару. Он остался чрезвычайно доволен таким решением.
Теперь их пустили в комнату наверху за перегородкой где как была уверена
раньше Гертруда Стайн старая служанка писала картины Сезанна, и они
проводили там целые дни решая какой портрет купить. Их было штук восемь на
выбор и решение давалось нелегко. Им часто приходилось наведываться к Фуке и
подкрепляться медовыми кексами. В конце концов они сузили выбор до двух
портретов, мужского и женского, но на этот раз не могли купить сразу два и в
конце концов выбрали женский.
Воллар сказал, обычно женский портрет стоит конечно дороже мужского, но
у Сезанна, сказал он очень внимательно разглядывая картину, это на мой
взгляд все равно. Они отнесли картину в кабриолет и поехали с нею домой.
Именно об этой картине Элфи Морер говорил что она закончена и понятно что
она закончена потому что она в раме.
Это была очень важная покупка, потому что глядя и глядя на эту картину
Гертруда Стайн написала Три жизни.
Незадолго перед тем она начала в качестве литературного упражнения
переводить Trois Contes* Флобера а потом появился этот портрет Сезанна, и
она на него смотрела и под впечатлением от него написала Три жизни.
То что произошло дальше было осенью. Это был первый год осеннего
салона, самого первого осеннего салона в Париже, и они туда пошли,
взволнованные и полные ожиданий. Там они нашли
* Три повести (фр.)
- 53-
картину Матисса позднее известную под названием 1а Femme au Chapeau*.
Первый осенний салон был шагом на пути к признанию тех кого отверг
cалон независимых. Их картины должны были выставить в Пти Пале напротив Гран
Пале где обычно проходил большой весенний салон. Вернее выставить должны
были тех отверженных которые уже настолько преуспели что их картины
продавались в крупных художественных магазинах. В сотрудничестве с
отдельными бунтарями из прежних салонов они и создали осенний салон.
На выставке было много оригинального и она не давала поводов к
беспокойству. Было много приятных картин но была одна неприятная. Публика
доходила до бешенства, пытались даже отковыривать краску.
Гертруде Стайн картина понравилась, это был портрет женщины с длинным
лицом и с веером Он был очень странный по цвету и построению. Она сказала
что хочет его купить. Тем временем ее брат увидел женщину в белом на зеленом
газоне и захотел купить ее. Поэтому они решили как обычно купить и то и
другое и пошли в кабинет секретаря салона узнать цену. Они никогда прежде не
бывали в каморке секретаря салона и им было ужасно интересно. Секретарь
посмотрел цены в каталоге. Сколько стоила та картина где белое платье и
женщина на зеленой траве и даже чья она была Гертруда Стайн не помнит, а
Матисс стоил
* Женщина в шляпе (фр.)
- 54-
пятьсот франков. Секретарь объяснил что столько сколько просит художник
конечно никогда не дают, предлагают свою цену. Они спросили какую цену нужно
предложить. Он спросил сколько они готовы заплатить. Они сказали что не
знают. Он посоветовал предложить четыреста франков а ответ он потом им
сообщит. Они согласились и ушли.
На следующий день они получили от секретаря записку где говорилось что
месье Матисс отказался принять их предложение и что они собираются делать.
Они решили пойти в салон и еще раз посмотреть на картину. Пошли. Люди перед
картиной покатывались со смеху и скребли краску пальцем. Почему, Гертруда
Стайн понять не могла, ей картина казалась совершенно естественной. Портрет
Сезанна поначалу не казался естественным ей понадобилось время чтобы понять
что он естественный но эта картина Матисса была совершенно естественная и
мисс Стайн не могла понять почему она вызывает такое бешенство. Брату она
нравилась меньше но он все равно согласился и они купили ее. Потом она опять
пошла смотреть картину и ей было очень неприятно видеть как все над ней
насмехаются. Это беспокоило и сердило ее потому что она не понимала почему
потому что ей она очень нравилась, точно так же как позднее она не понимала
почему то что она пишет, если она пишет так естественно и ясно, вызывает
насмешку и злобу.
Вот как звучала история покупки 1а Femme au Chapeau в изложении
покупателей а теперь та же самая история с точки зрения продавцов
рассказанная несколько месяцев спустя месье и мадам
- 55-
Матисс. Вскоре после покупки картины все они предложили друг другу
познакомиться. То ли Матисс написал и предложил, то ли они написали и
предложили, Гертруда Стайн не помнит. Во всяком случае очень скоро они уже
были знакомы друг с другом и знакомы очень близко.
Матиссы жили на набережной в двух шагах от бульвара Сен-Мишель. У них
была небольшая трехкомнатная квартира на последнем этаже с чудесным видом на
реку и Нотр-Дам. Матисс писал его зимой. Вы поднимались и поднимались по
лестнице. Тогда вы все время то поднимались то спускались по лестницам.
Милдред Олдрич имела удручающую привычку прощаясь с человеком который стоял
внизу ронять ключ со своего шестого этажа в пролет лестницы где мог бы быть
лифт, и тогда или вам или ей приходилось снова подниматься или спускаться на
все шесть этажей вверх или вниз. Разумеется она часто кричала, ничего, я
выломаю дверь. Так делали только американцы. Однажды Сэйену в конце
парижского лета сказали комплимент, как он загорел и как замечательно
выглядит, и он ответил, да, больше поднимайтесь и спускайтесь по лестнице.
Мадам Матисс была замечательная хозяйка. Квартира у нее была маленькая
но в безупречном порядке. Она прибирала в доме, она была прекрасная
кулинарка и кормилица семьи, она позировала для всех картин Матисса. Это она
и была 1а Femme au Chapeau, женщина в шляпе. Она держала маленькую шляпную
мастерскую чтобы они могли продержаться во времена их самой большой бед-
- 56-
ности у нее были темные волосы, очень прямая спина, длинное лицо и
четкий большой вислогубый рот как у лошади. У нее были густые темные волосы.
Гертруде Стайн всегда нравилось то как она прикалывает шляпу к волосам и
однажды Матисс нарисовал свою жену делающей это характерное движение и
подарил рисунок Гертруде Стайн. Она всегда одевалась в черное. Она всегда
подносила большую черную шляпную булавку к самой середине шляпы на самой
середине макушки и размашистым уверенным жестом ее втыкала. С ними жила дочь
Матисса, дочь, родившаяся у него до брака и болевшая дифтеритом и
перенесшая операцию и много лет вынужденная носить на шее черную ленту с
серебряной пуговицей. Эту ленту Матисс писал на многих своих картинах.
Девочка была вылитый отец, и мадам Матисс, как она однажды объяснила со всей
своей простодушной пылкостью, делала для нее больше чем для собственных
детей, потому что прочитав в юности роман где главная героиня делала именно
так и была за то всю жизнь горячо любима, решила что и она будет делать так
же. У нее самой было два сына но ни один тогда с ними не жил. Младший Пьер
жил на юге Франции у испанской границы с родителями мадам Матисс а старший
Жан с родителями месье Матисса на севере Франции у бельгийской границы.
Матисс отличался удивительной мужественностью от которой вам всегда
делалось необычайно приятно если вы перед тем какое-то время его не видели.
Не так приятно когда вы его видели в пер-
- 57-
вый раз как потом. И вам продолжало быть приятно от его мужественности
все то время пока он был с вами. Но жизни в этой мужественности почти не
чувствовалось. Мадам Матисс была совсем другая, всякий кто ее знал
чувствовал в ней очень сильную жизнь.
У Матисса тогда была одна небольшая картина Сезанна и одна небольшая
картина Гогена, он говорил что обе ему нужны. Сезанн был куплен на приданое
жены а Гоген на ее кольцо, первое в ее жизни украшение. И они были счастливы
потому что ему были нужны эти две картины. На картине Сезанна были
купальщики и навес, на картине Гогена голова мальчика. Потом, когда Матисс
стал очень богатым человеком, он продолжал покупать картины. Он говорил что
понимает в картинах и в них уверен и не понимает ни в чем другом. Поэтому
для собственного удовольствия и как самое лучшее что можно оставить в
наследство детям он покупал Сезанна. Пикассо потом тоже когда разбогател
начал покупать картины но собственные. Он тоже всегда верил в картины и тоже
хочет оставить сыну самое лучшее наследство какое он может так что он
оставляет себе и покупает собственные картины.
Матиссы пережили тяжелые времена. Матисс приехал в Париж молодым
учиться аптечному делу. Его родители были мелкие торговцы зерном на севере
Франции. Он стал интересоваться живописью, начал копировать Пуссена в Лувре
и стал художником явно без согласия родителей которые тем не менее
продолжали выделять на его содер-
- 58-
жание ту же очень маленькую ежемесячную сумму что он получал студентом.
Тогда же у него родилась дочь и его жизнь еще более усложнилась. Поначалу он
имел некоторый успех. Он женился. Под влиянием живописи Пуссена и Шардена он
написал натюрморты которые имели значительный успех в салоне на Марсовом
поле, одном из двух больших весенних салонов. А потом он попал под влияние
Сезанна а потом под влияние негритянской скульптуры. Из всего этого сложился
Матисс периода 1а Femme au Chapeau. На следующий год после своих весьма
значительных успехов в салоне он целую зиму работал над очень большой
картиной где женщина накрывает на стол а на столе стоит роскошное блюдо с
фруктами. Покупка этих фруктов истощила ресурсы семьи Матиссов, фрукты, даже
самые обыкновенные, были тогда в Париже безумно дороги, а представьте себе
насколько дороже были те совершенно необыкновенные фрукты и они должны были
не испортиться до тех самых пор пока картина не будет закончена а на картину
нужно было много времени. Чтобы они не портились как можно дольше они
выстуживали комнату как можно больше, в мансарде и парижской зимой это
нетрудно, Матисс писал в пальто и перчатках и писал ее всю зиму. Наконец она
была закончена и отослана в салон где год тому назад Матисс имел
значительный успех, и ее не приняли. И тогда начались настоящие невзгоды
Матисса, очень болела дочь, его терзали творческие сомнения и он лишился
всех возможностей выставляться. Теперь он работал не дома а в мастерской.
Так
- 59-
было дешевле. Каждый день с утра он писал, в середине дня ваял, в конце
дня рисовал обнаженную натуру в классе наброска а вечером играл на скрипке.
Это были очень беспросветные времена и он был в полном отчаянии. Его жена
открыла маленькую шляпную мастерскую и они умудрялись жить. Обоих сыновей
отослали в деревню к его и ее родителям и продолжали жить. Поддержку он
находил только в мастерской где он работал и где вокруг него стали
собираться и попадать под его влияние разные молодые люди. Самым из них
известным тогда был Манген, самый известный теперь Дерен. Дерен в то время
был совсем молодой, он необычайно восхищался Матиссом, он ездил с ними в
деревню, в Коллиур под Перпиньяном, и был для всех для них большим
утешением. Он стал писать пейзажи обводя деревья красным и у него было
вполне самостоятельное ощущение пространства которое впервые проявилось в
пейзаже с телегой едущей по дороге обсаженной деревьями обведенными красным.
Его картины начинали пользоваться известностью у независимых.
Матисс работал ежедневно ежедневно и ежедневно и ужасно много работал.
Однажды к нему пришел Воллар. Матисс любил рассказывать эту историю. Я часто
слышала как он ее рассказывает. Пришел Воллар и сказал что хочет посмотреть
ту большую картину которую не приняли. Матисс показал. Он не взглянул на
нее. Он говорил с мадам Матисс и в основном о еде, как положено французу он
был любитель готовить и вкусно поесть и она тоже. Матисс и мадам Матисс уже
силь-
- 60-
но нервничали хотя она не показывала виду. А куда, заинтересованно
спросил Воллар у Матисса, выходит эта дверь, она выходит во двор или она
выходит на лестницу. Во двор, сказал Матисс. А-а да, сказал Воллар. И затем
он ушел.
Много дней Матиссы ломали себе голову над тем было ли в вопросе Воллара
нечто символическое или же это было праздное любопытство. Воллару было
совершенно не свойственно праздное любопытство, он всегда хотел знать что
все думают обо всем потому что таким образом он понимал что думает он сам.
Это было прекрасно известно и Матиссы спрашивали друг друга и всех своих
друзей почему же он задал этот вопрос про дверь. Как бы там ни было он купил
картину в том же году, за гроши но купил, и убрал ее и никто ее не видел и
тем дело кончилось.
С тех пор у Матисса ничего не менялось ни к лучшему ни к худшему и он
стал разочарован и раздражителен. Потом был первый осенний салон, ему
предложили прислать картину, он послал 1а Femme au Chapeau и ее повесили. Ее
осмеяли и раскритиковали, и ее продали.
Матиссу тогда было лет тридцать пять, он был подавлен. Сходив на
открытие салона и услышав что говорят о его картине и увидев что пытаются с
нею сделать, во второй раз он уже не пошел. Его жена ходила одна. Он сидел
дома и переживал. Так обычно рассказывала эту историю мадам Матисс.
Потом пришло письмо от секретаря салона и в нем говорилось что на
картину есть предложение,
- 61-
предложение на четыреста франков. Матисс писал мадам Матисс как цыганку
с гитарой. Гитара уже имела историю. Мадам Матисс ужасно нравилось ее
рассказывать. У нее было очень много дел и вдобавок она позировала, и у нее
было хорошее здоровье и хороший сон. Однажды она позировала, он писал, она
начала клевать носом и оттого что она клевала носом гитара задребезжала.
Прекрати, сказал Матисс, проснись. Она проснулась а потом вскоре стала опять
клевать носом гитара задребезжала еще громче. Матисс в ярости схватил гитару
и сломал ее. А дела у нас, горестно добавляла мадам Матисс, тогда были
совсем плохи и тут еще пришлось ее чинить чтобы он мог дальше писать
картину. Она держала эту самую починенную гитару и позировала когда пришло
письмо от секретаря осеннего салона. Матисс ликовал, конечно я соглашусь,
сказал Матисс. Э нет, сказала мадам Матисс, раз эти люди (сеs gеns)
настолько заинтересованы что делают предложение о покупке значит они
настолько заинтересованы что купят ее и по той цене которую ты просил, и
добавила, а разница это одежда на зиму для Марго. Матисс сомневался но в
конце концов она его убедила и они послали письмо в котором написали что он
хочет свою цену. И ничего. Матисс был в ужасном состоянии и не мог ей
простить, а потом через день или два когда мадам Матисс снова позировала с
гитарой а Матисс писал, Марго принесла маленькую голубую телеграмму. Матисс
ее вскрыл и его лицо исказилось. Мадам Матисс была в ужасе, она решила что
случилось самое худшее. Гитара упала. Ну что, спросила она. Купили, ответил
он.
- 62-
Зачем же ты делаешь такое страдальческое лицо и так пугаешь меня и
наверняка портишь гитару, спросила она. Это я подмигивал тебе, ответил он,
чтобы ты поняла потому что от волнения я не мог говорить.
И вот, торжествующе заканчивала рассказ мадам Матисс, теперь вы видите
что это я, и я правильно сделала что настояла на исходной цене, и
мадемуазель Гертруда, она настояла на покупке, это мы с ней все так хорошо
устроили.
Дружба с Матиссами крепла быстро. Матисс в то время работал над своей
первой большой декоративной картиной 1е Вопhеиr de Vivre*. Он писал к ней
маленькие, большие и очень большие этюды. Именно в этой картине Матисс
впервые отчетливо воплотил свое стремление исказить рисунок человеческого
тела чтобы гармонизировать и усилить насыщенность всех открытых цветов
смешанных только с белым. Он использовал искаженный рисунок все равно как в
музыке используется диссонанс или как лимон или уксус в кулинарии или яичная
скорлупа для осветления кофе. Я неизменно черпаю сравнения из области кухни
потому что люблю вкусно поесть и люблю готовить и я большой по этой части
знаток. Идея, во всяком случае, была такая. Сезанн пришел к незаконченности
и искаженности вынужденным путем. Матисс этот путь выбрал сознательно.
* Счастье жизни (фр.)
- 63-
Понемногу люди начали приходить на рю де Флерюс смотреть Матисса и
Сезанна. Матисс при-
водил людей, все кого-нибудь приводили, и они приходили в любое время и
это становилось обременительным и это именно таким образом начались
субботние вечера. И это в это же самое врема у Гертруды Стайн появилась
привычка работать ночью. Только после одиннадцати она точно знала что никто
уже больше не постучится в дверь мастерской. Она обдумывала тогда свою
длинную книгу, Становление американцев, она боролась со своими
предложениями, с теми самыми длинными предложениями которые требовали такой
большой точности исполнения. Предложения не только слова но предложения и
всегда предложения были страстью прошедшей через всю жизнь Гертруды Стайн
Так вот тогда у нее появилась привычка и сохранялась она по существу до
войны, которая положила конец столь многим привычкам, тогда у нес появилась
привычка садиться работать в одиннадцать вечера и работать до рассвета. Она
говорила что всегда старается кончить пока еще не совсем рассвело и не
совсем ожили птицы потому что в такое время ложиться спать это очень
неприятное ощущение. На частых деревьях за высокой стеной тогда жили птицы,
теперь их меньше. Но нередко рассвет и птицы заставали ее за столом и она
сто яла во дворе чтобы к ним привыкнуть а потом шла спать. В то время у нее
появилась привычка спать часов до двенадцати, и выколачивание ковров во
дворе потому что в те времена во всех до мах, даже в ее собственном доме
выколачивал ковры, вызывало у нее приступы мучительного раздражения.
И вот начались субботние вечера.
- 64-
Гертруда Стайн и ее брат бывали у Матиссов часто а Матиссы бывали у них
все время. Иногда мадам Матисс приглашала их на обед, чаще всего это
происходило тогда когда кто-нибудь из родственников присылал Матиссам зайца.
Тушеный заяц приготовленный по-перпиньянски мадам /Матисс это было нечто
совершенно особое. Еще у них давали необычайно вкусное вино, тяжеловатое, но
превосходное. Еще у них давали мадеру сорта Ронсио которая была очень очень
хороша. Скульптор Майоль родился в той же части Франции что и мадам Матисс и
однажды, много лет спустя, когда я познакомилась с ним у Джо Дэвидсона он
мне все рассказал об этих винах. Он рассказал тогда как хорошо он жил в
студенческие годы в Париже на пятьдесят франков в месяц: Разумеется, сказал
он, родители каждую неделю присылали мне хлеб домашней выпечки а я когда
приехал привез столько вина что хватило на год а. грязные вещи каждый месяц
отправлял стирать домой.
На одном таком обеде в те далекие времена был Дерен. Между ним и
Гертрудой Стайн возникли сильные разногласия. У них вышел спор на
философские темы, и он обосновывал свои воззрения тем что читал вторую часть
Фауста во французском переводе когда служил в армии. Друзьями они никогда не
были. Гертруду Стайн никогда не интересовала его живопись. У него было
чувство пространства но для нее в его картинах не было ни жизни ни глубины
ни объемности. Потом они
- 65-
виделись редко. А тогда Дерен постоянно бывал у Матиссов и он был тем
другом Матисса который больше всех нравился мадам Матисс.
В это же приблизительно время брат Гертруды Стайн однажды случайно
нашел картинную галерею Саго, бывшего циркового клоуна у которого тогда был
художественный магазин дальше по рю Лафит. Здесь он, брат Гертруды Стайн,
нашел картины двух молодых испанцев, как звали первого все уже позабыли а
второй был Пикассо. И тот и другой его заинтересовали и он купил акварель
забытого, сцену в кафе. Саго посоветовал ему также сходить в небольшой
мебельный магазин где как раз выставлялось несколько картин Пикассо. Брат
Гертруды Стайн заинтересовался, хотел одну картину купить и спросил цену но
цену просили почти такую же как за Сезанна. Он пошел обратно к Саго и
рассказал ему. Саго засмеялся. Он сказал, если вы придете через несколько
дней у меня будет большая картина. Через несколько дней у него действительно
была большая картина и стоила она очень дешево. Когда Гертруда Стайн и
Пикассо рассказывают о тех временах у них иногда случаются разногласия
относительно происходящего но по-моему в данном случае оба согласны что
просили за нее сто пятьдесят франков. Картина была ныне широко известная
обнаженная с корзиной красных цветов.
Гертруде Стайн картина не нравилась, ей казалось что в изображении ног
есть что-то довольно жуткое, что-то такое что отталкивало и пугало ее. Они с
братом едва не поссорились из-за этой кар-
- 66-
тины. Он хотел иметь ее в доме а она не хотела. Саго догадался о чем
идет речь и сказал, в чем же дело, раз вам не нравятся ноги ее можно
гильотинировать и взять только голову. Нет, так не пойдет, сказали они и
ничего не решили.
Гертруда Стайн и ее брат продолжали каждый стоять на своем и очень друг
на друга сердились. В конце концов было решено что раз он, брат, так безумно
ее хочет то они ее купят, и таким образом на рю де Флерюс появился первый
Пикассо.
Как раз приблизительно в это время Раймонд Дункан, брат Айседоры, снял
ателье на рю де Флерюс. Раймонд только что вернулся из своей первой поездки
в Грецию и привез оттуда греческую подругу и греческую одежду. Раймонд знал
старшего брата Гертруды Стайн и его жену еще по Сан-Франциско. В то время он
подвизался в качестве импресарио Эммы Невада при которой был также
виолончелист Пабло Касальс, в то время совсем неизвестный.
Тогда у семейства Дункан был этап Омара Хайяма, они еще не были
греками. Потом у них был период итальянского Ренессанса а теперь Раймонд
сделался совершенным греком а это предполагало подругу-гречанку. Айседора
интерес к нему потеряла, она считала подругу слишком современной гречанкой.
Во всяком случае денег у Раймонда в то время не было ни гроша а его жена
ждала ребенка. Гертруда Стайн дала ему угля и стул чтобы Пенелопе было на
чем сидеть, остальные сидели на чемоданах. Им помогала еще одна
приятельница, Кэтлин Брюс, очень красивая, очень атлетически
- 67-
сложенная молодая англичанка, скульпторша, она потом стала женой и
вдовой первооткрывателя Южного полюса Скотта. Денег у нее тогда
по-настоящему тоже не было и каждый вечер она приносила Пенелопе половину
собственного обеда. В конце концов Пенелопа родила и ребенка назвали
Раймондом потому что когда старший брат Гертруды Стайн и Раймонд Дункан
пошли его регистрировать они заранее не подумали об имени Сейчас вопреки его
желанию его зовут Меналкасом но может быть ему было бы приятно узнать что
официально он Раймонд. Впрочем это отдельная история.
Кэтлин Брюс была скульпторша и училась ваять фигурки детей и она
попросила чтобы ей позировал для такой фигурки племянник Гертруды Стайн.
Гертруда Стайн и ее племянник ходили в мастерскую Кэтлин Брюс. Там, в один
прекрасный день, они познакомились с А. П. Роше. Роше был из той породы
людей какие всегда есть в Париже. Это был очень честный, очень благородный,
преданный, очень верный и очень восторженный человек который всех со всеми
знакомил. Он знал всех, действительно всех знал, и он мог познакомить кого
угодно и с кем угодно. Он хотел стать писателем. Он был высокий и рыжий и он
всегда говорил только хорошо хорошо прекрасно и жил он с мамой и бабушкой.
Он уже много успел, он бывал в австрийских горах с австрийцами, он бывал в
Германии с немцами и он бывал в Венгрии с венграми и он бывал в Англии с
англичанами. Он не бывал в России хотя бывал у русских в Париже.
- 68-
Как говорил о нем Пикассо, Роше очень милый но он только перевод.
Потом он часто бывал на рю де Флерюс 27 со знакомыми разных
национальностей и Гертруде Стайн он вполне нравился. Она всегда о нем
говорила, он такой верный, даже если его может быть больше никогда не
увидишь все равно будешь знать что где-то есть верный Роше. Благодаря ему на
ранней поре их знакомства ей действительно довелось испытать одно
восхитительное ощущение. Как раз тогда писались Три жизни, первая книга
Гертруды Стайн, и она очень поразила Роше который читал по-английски.
Однажды Гертруда Стайн что-то рассказывала о себе а Роше сказал, хорошо
хорошо прекрасно, это очень важно для вашей биографии. Она была ужасно
растрогана, она впервые по-настоящему поняла что когда-нибудь у нее будет
биография. И это правда что хотя она не видела его долгие годы, где-то
наверное есть неотступно верный Роше.
Но вернемся к Роше в мастерской Кэтлин Брюс. Они говорили о том о сем и
Гертруда Стайн обмолвилась что они недавно купили у Саго картину молодого
испанца по имени Пикассо. Хорошо хорошо прекрасно, сказал Роше, это очень
интересный молодой человек, я с ним знаком. Правда, спросила Гертруда Стайн,
и настолько близко что можете к нему кого-то привести. Конечно а что,
спросил Роше. Отлично, сказала Гертруда Стайн, мой брат я знаю очень хочет с
ним познакомиться. Тогда же и там же договорились о встрече и вскоре Роше и
брат Гертруды Стайн пошли к Пикассо.
- 69-
И это очень вскоре после того Пикассо начал писать портрет Гертруды
Стайн ныне столь широко известный, но как так получилось толком никто не
знает. Я слышала как Гертруда Стайн и Пикассо часто об этом говорят и они
оба не помнят. Они помнят как Пикассо впервые ужинал на рю де Флерюс и они
помнят как Гертруда Стайн впервые позировала для портрета на рю Равиньян но
в промежутке наступает провал. Как так получилось им непонятно. Пикассо
никто не позировал с его шестнадцати лет, тогда ему было двадцать четыре, а
Гертруда Стайн никогда не думала о том чтобы иметь собственнный портрет, и
ни ему ни ей непонятно как же так получилось. Во всяком случае так
получилось, она позировала для портрета девяносто раз и за это время много
чего произошло. Вернемся к первым разам.
Пикассо и Фернанда пришли на ужин, Пикассо в те времена был этакий, как
говорила моя любимая подруга и одноклассница Нелли Джэкот, красавец
сапожник. Он был худой и черноволосый, весь огромные глаза-озера, и резкий
но не грубый. За ужином он сидел рядом с Гертрудой Стайн и она взяла кусок
хлеба. Это, сказал Пикассо и резко выхватил кусок у нее из рук, это мой
кусок хлеба. Она засмеялась а он смутился. Это было началом их близости.
В тот вечер брат Гертруды Стайн доставал папку за папкой японские
гравюры и показывал их Пикассо, брат Гертруды Стайн любил японские гравюры.
Пикассо серьезно и покорно рассматривал гравюру за гравюрой и выслушивал
пояснения.
- 70-
0н вполголоса сказал Гертруде Стайн, он очень симпатичный, ваш брат, но
как все американцы, как Хэвиленд, он показывает японские гравюры. Moi, je
n'aime pas ca, нет, мне такое не нравится. Гертруда Стайн и Пабло Пикассо
как я уже говорила сразу друг друга поняли.
Потом было первое позирование. Ателье Пикассо я уже описывала. В те
времена было еще больше беспорядка и еще больше сутолоки, больше жару в
докрасна раскаленной печке, больше перерывов на стряпню и ничегонеделание.
Было большое сломанное кресло в котором позировала Гертруда Стайн. Была
кушетка на которой сидели и спали. Был маленький кухонный стул на котором
сидел Пикассо когда писал, был большой станок и было много очень больших
полотен. Это был период расцвета конца периода цирка когда полотна были
огромные, и фигуры тоже, и группы.
Был там маленький фокстерьер с которым что-то случилось и его уже
водили к собачьему эскулапу и собирались вести опять. Никогда французы или
француженки не бывают так бедны или так беспечны или так скупы чтобы они не
могли сводить и постоянно бы не водили к эскулапу собачку-лапу.
Фернанда, как всегда, была очень крупная, очень красивая и очень
благодушная. Она вызвалась читать вслух басни Лафонтена чтобы развлечь
Гертруду Стайн пока Гертруда Стайн позирует. Она приняла свою позу Пикассо
очень плотно и очень близко к холсту сел на свой стул и на очень маленькой
палитре равномерно серо-коричневого
- 71-
цвета смешал еще немного серо-коричневого, и писание началось. Это был
первый из восьмидесяти или девяноста сеансов. В конце дня оба брата
Гертруды Стайн, ее невестка и Эндрю Грин пришли посмотреть. Они все были
потрясены красотою наброска а Эндрю Грин просил и просил оставить его как
есть. Но Пикассо покачал головой и сказал, non*.
Очень плохо но никто в те времена не догадался сфотографировать
картину такой какой она была тогда а конечно все кто ее тогда видели помнят
как она выглядела ничуть не лучше чем Пикассо или Гертруда Стайн.
Эндрю Грин, как они познакомились с Эндрю Грином они никто не знали,
это был внучатый племянник Эндрю Грина известного как отец большого
Нью-Йорка. Он родился и вырос в Чикаго но он был типичный длинный тощий
новоангличанин, белокурый и добрый. У него была феноменальная память и он
мог прочитать наизусть весь Потерянный рай Мильтона а также все переводы
китайских стихотворений которые Гертруде Стайн очень нравились. Он бывал в
Китае а потом, когда он в конце концов унаследовал внушительное состояние
двоюродного дедушки любившего Потерянный рай Мильтона, он постоянно жил на
островах Южных морей. У него была страсть к восточным тканям. Он обожал, как
он говорил, гладкую середину и непрерывный орнамент. Он любил картины в
музеях и ненавидел все современное.
* Нет (фр.)
- 72-
Однажды, когда в отсутствие хозяев он месяц жил на рю де Флерюс он
оскорбил чувства Элен тем что распорядился каждый день менять постельное
белье и закрыл все картины кашемировыми шалями. Он говорил что картины
действуют очень успокоительно, он этого не отрицает, но сам он терпеть их не
может. Он говорил что по истечении этого месяца он конечно так и не сумел
полюбить новые картины но самое ужасное что так их и не полюбив он потерял
всякий вкус к старым и теперь никогда в жизни больше не сможет ходить ни в
какие музеи и смотреть ни на какие картины. Он был необычайно потрясен
красотой Фернанды. Он был на самом деле совершенно сражен. Если бы, сказал
он Гертруде Стайн, я говорил по-французски, я бы ее завлек и увел от этого
коротышки Пикассо. Разве завлекают словами, смеясь спросила Гертруда Стайн.
Он уехал до моего приезда в Париж а через восемнадцать лет он вернулся и был
очень скучный.
Это был сравнительно спокойный год. Матиссы всю зиму были на юге
Франции, в Коллиуре на Средиземном море недалеко от Перпиньяна где жила
родня мадам Матисс. Семейство Раймонда Дункана исчезло сперва пополнившись
сестрою Пенелопы а она была маленькая актриса и одевалась далеко не
гречанкой, она изо всех сил старалась быть маленькой парижанкой. Ее
сопровождал очень высокий темноволосый кузен-грек. Он пришел к Гертруде
Стайн и он посмотрел по сторонам и объявил, я грек, то есть иначе говоря, у
меня безупречный вкус и ни одна из этих картин мне
- 73-
не нравится. Очень скоро Раймонда с женой, ребенком, свояченицей и
кузеном-греком исчезли со двора рю де Флерюс 27 и вместо них появилась
немецкая дама
Эта немецкая дама была племянница и крестница немецких фельдмаршалов а
ее брат был капитан немецкого флота Ее мать была англичанка а сама она
прежде играла на арфе при баварском дворе. Она была очень забавная и у нее
было несколько странных друзей, и англичан и французов. Она ваяла, и она
изваяла типично немецкую статуэтку маленького Роже, сына консьержки. Она
изваяла три его головы, плачущую, смеющуюся и высовывающую язык, все три
вместе на одном постаменте. Она продала эту вещь королевскому музею в
Потсдаме. Во время войны консьержка часто начинала рыдать при мысли о том
что ее сын Роже стоит, изваянный, там в Потсдамском музее. Она придумала
одежду которую можно было носить на обе стороны и разнимать на части и
удлинять или укорачивать и всем показывала ее с большой гордостью. Она взяла
себе учителем рисования француза зловещего вида который очень походил своим
видом на отца Гекльбери Финна с картинки в книжке. Она объясняла что его
услугами пользуется из сострадания, в юности он получил золотую медаль в
салоне но впоследствии не добился успеха. Еще она говорила что никогда не
нанимает прислугу из сословья прислуги. Она говорила что разорившиеся
дворянки куда аппетитнее и расторопнее и ей всегда шила или позировала
какая-нибудь офицерская или чиновничья вдова.
- 74-
Одно время у нее была служанка-австриячка которая пекла совершенно
восхитительное австрийское печенье но она держала ее недолго. Короче говоря
она была очень забавная и они с Гертрудой Стайн обычно беседовали во дворе.
Она всегда хотела знать что думает Гертруда Стайн обо всех входящих и
выходящих. Она хотела знать приходит ли она к своим умозаключениям с помощью
дедукции, наблюдения, воображения или анализа. Она была забавная а потом она
исчезла и о ней не вспоминали до тех самых пор пока не началась война и
тогда все стали думать не было ли вообще чего-то подозрительного в жизни
этой немки в Париже.
Почти каждый день Гертруда Стайн ехала на Монмартр, позировала, а затем
она бродила по холму и обычно шла пешком по Парижу на рю де Флерюс. Тогда у
нее появилась никогда уже не оставлявшая ее привычка гулять по Парижу,
теперь в обществе собаки, в те времена в одиночестве.
Во время этих долгих прогулок и долгих сеансов Гертруда Стайн
размышляла и сочиняла предложения. Тогда она писала свою негритянскую
повесть Меланкта Герберт, вторую повесть Трех Жизней, и душераздирающие
сцены которыми она перемежала жизнь Меланкты были часто те сцены что она
подмечала гуляя по холму на обратном пути с рю де Равиньян.
Это в то время началось паломничество венгров на рю де Флерюс. Тогда
там бывали странные группы американцев, Пикассо не привыкший к девственности
этих молодых мужчин и женщин о
- 75-
них говорил, ils ne sont pas des hommes, ils ne sont pas des femmes,
ils sont des américains. Это не мужчины и не женщины, это американцы.
Однажды была питомица Брин Мора, жена известного портретиста, а она была
очень высокая и красивая и однажды ударившись головой ходила со странным
отсутствующим выражением. Ее он как раз одобрил и назвал Императрицей. Очень
его удручали американские студенты-искусствоведы определенного типа,
мужчины, он говорил, нет это не они в будущем прославят Америку. У него была
характерная реакция когда он увидел первую фотографию небоскреба Боже мой,
сказал он, представьте себе какие муки ревности должен испытывать влюбленный
пока его любимая поднимается по всем этим лестницам к нему в мастерскую на
последнем этаже.
Это в то самое время коллекция пополнилась одной картиной Мориса Дени,
одной картиной Тулуз-Лотрека и множеством огромных картин Пикассо. И в это
же самое время начались знакомство и дружба с Валлоттонами.
Воллар как-то сказал когда его спросили о картине одного художника, оh,
са, с'еst un Cezanne pour 1es раuvres, это Сезанн для бедного коллекционера.
Ну а Валлоттон это был Мане для неимущих. Его большой обнаженной были
присущи вся резкость, вся неподвижность но отнюдь не совершенство Олимпии
Мане а его портретам сухость но отнюдь не изысканность Давида И к тому же он
имел несчастье жениться на сестре влиятельного коллекционера. Ему очень
повезло с женой
- 76-
и она была очень обаятельная женщина но при этом были еженедельные
семейные сборы, и еще было богатство жены и озлобленность пасынков. Он был
нежная душа, Валлоттон, тонкий и очень честолюбивый но полный ощущения
беспомощности, и все потому что он состоял в свойстве с коллекционерами. Тем
не менее какое-то время у него были очень интересные картины. Он попросил
Гертруду Стайн ему позировать. Она позировала на следующий год. Она полюбила
позировать, тишина долгих часов и потом темнота долгих прогулок увеличивали
сосредоточенность с которой она создавала свои предложения. Предложения о
которых Марсель Брион, французский критик, писал, точностью, аскетизмом,
отсутствием светотени, отказом от включения подсознания Гертруда Стайн
добивается симметрии приближающейся к симметрии музыкальной фуги Баха
Она часто описывала странное ощущение которое возникало у нее от того
каким образом писал Валлоттон. Он был тогда уже не молод для художника, он
получил широкую известность как художник еще на парижской выставке 1900
года. Когда он писал портрет он делал набросок карандашом а потом прямо по
нему начинал сверху записывать холст. Гертруда Стайн говорила что это похоже
на опускание шторы сползающей вниз так же медленно как его швейцарские
ледники. Он медленно опускал штору и когда он доходил до низа холста
выходили вы. Вся эта операция занимала недели две а потом он вручал вам
холст. Но сперва он выставил его в осеннем салоне и он по-
- 77-
лучил широкий отклик и все остались довольны.
Все ходили в цирк Медрано, раз в неделю по крайней мере, и обычно все
ходили в один и тот же вечер. Клоуны в этом цирке уже начали одеваться в
мешковатую одежду вместо прежнего классического костюма и эта одежда потом
такая знакомая на Чарли Чаплине приводила в восторг Пикассо и всех его
друзей с Монмартра. Были еще английские наездники и их костюмы задавали моду
всему Монмартру. Недавно кто-то говорил о том как хорошо одеваются нынешние
молодые художники и как жаль что они так тратят деньги. Пикассо засмеялся. Я
уверен, сказал он, что они меньше платят за свой модный complet, костюмную
пару, чем платили мы за пару простых и грубых штанов. Вы и не представляете
себе как тогда было трудно и как дорого найти английский твид или похожий
французский материал такой же грубый и замызганный с виду. И это истинная
правда тогда художники так или иначе действительно тратили уйму денег и они
тратили все что у них было потому что в те счастливые времена можно было
жить в долг и годами не платить за холст и краски, за жилье и рестораны, не
платить почти ни за что кроме угля и предметов роскоши.
Зима продолжалась. Три жизни были написаны. Гертруда Стайн попросила
свою невестку прийти и прочесть. Она пришла и прочла и была глубоко
потрясена. Гертруде Стайн было ужасно приятно, она не думала что кто-то
может читать то что она написала и испытывать интерес. В то время она всегда
спрашивала не что люди думают о ее сочинениях,
- 78-
а только было ли им интересно читать. Теперь она говорит, если они
могут заставить себя читать им будет интересно.
Жена старшего брата всегда много значила в ее жизни но в те
послеполуденные часы много как никогда. А потом это еще надо было
перепечатать, у Гертруды Стайн была тогда маленькая разваливающаяся
портативная машинка которой она никогда не пользовалась. Тогда и многие годы
после она всегда писала карандашом на клочках бумаги, потом переписывала
чернилами во французскую школьную тетрадку и потом часто еще раз
переписывала чернилами. Это в связи с этими различными скоплениями клочков
бумаги ее старший брат однажды заметил, уж не знаю кто из вас талантливее,
Гертруда или все остальные, в этом я не понимаю, но я всегда замечал одно,
вы все рисуете и пишете и вы недовольны и вы это рвете или выбрасываете, она
же не говорит довольна она или нет, она очень часто что-то переписывает но
никогда не выбрасывает ни единого клочка бумаги на котором она писала.
Гертруда Стайн попыталась перепечатать Три жизни на машинке но
безуспешно, она только нервничала, и к ней на помощь пришла Этта Коун. Мисс
Этта Коун, как называл ее и ее сестру Пабло Пикассо. Этта Коун была
балтиморская родственница Гертруды Стайн и она проводила зиму в Париже. Ей
было довольно одиноко и ей было довольно интересно.
Этга Коун находила что Пикассо ужасны но романтичны. Она была отводима
туда Гертрудой
- 79-
Стайн всякий раз когда содержание Пикассо всем становилось не по
карману и понуждаема покупать франков на сто рисунков. Она занималась такой
романтической благотворительностью вполне охотно. Незачем говорить что в
гораздо более поздние времена эти рисунки стали гордостью ее коллекции.
Этта Коун вызвалась перепечатать Три жизни и начала. Балтимор славится
тонкостью чувств и добросовестностью его жителей. Гертруде Стайн вдруг
пришло в голову что она не сказала чтобы Этта Коун прочла рукопись перед тем
как ее печатать. Она пошла к ней и действительно Этта Коун сидела и
старательно перепечатывала рукопись букву за буквой чтобы ни в коем случае
как-нибудь по нескромности не уловить смысл. Текст было разрешено прочесть и
перепечатывание продолжилось.
Приближалась весна и приближался конец сеансов. Однажды Пикассо вдруг
взял и записал всю голову. Я вас уже не вижу когда смотрю, раздраженно
сказал он. Ну и картина так и осталась.
Особого разочарования или досады от такого конца этого долгого цикла
позирований никто помнится не испытывал. Были весенние независимые а потом
по своему обыкновению тех лет Гертруда Стайн и ее брат собирались ехать в
Италию. Пикассо и Фернанда собирались, она впервые, ехать в Испанию, и она
должна была купить платье и шляпу и духи и керосинку. Переезжая из страны в
страну все француженки брали тогда с собой французскую керосинку чтобы
готовить. И может быть берут до сих пор. Ее обязательно нужно было брать с
- 80-
собой куда бы они ни ехали. Они платили огромные деньги за
дополнительный багаж, все эти путешествующие француженки. И вернулись
Матиссы, и они должны были познакомиться с Пикассо и прийти друг от друга в
восторг но не очень друг другу понравиться. И по их стопам с Пикассо
познакомился Дерен а с Дереном появился Брак.
Сегодня всем может показаться очень странным что прежде Матисс никогда
не слышал о Пикассо а Пикассо не был знаком с Матиссом. Но тогда каждая
тесная компания жила своей жизнью и почти ничего не знала ни о каких других
компаниях. Матисс на набережной Сен-Мишель и у независимых ничего не знал, о
Пикасо и Монмартре и Саго. Всех их, это правда, на самых ранних порах
покупала одного за другим мадемуазель Вейль, владелица антикварной лавки на
Монмартре, но она покупала картины у всех, картины принесенные кем угодно и
вовсе не обязательно самим художником, и поэтому вероятность того чтобы
один художник увидел там картины другого художника, разве что по редкой
случайности, была не очень большая. Тем не менее в более поздние времена все
они были очень ей благодарны потому что почти все кто позднее прославились
продали свою первую маленькую картину именно ей.
Так вот как я уже говорила сеансы кончились, вернисаж независимых
кончился и все разъехались.
Это была плодотворная зима. В ходе долгой борьбы с портретом Гертруды
Стайн Пикассо перешел от периода цирка, этого прелестного раннего
итальянского периода, к напряженной борьбе
- 81-
которая окончится, кубизмом. Гертруда Стайн написала повесть о
негритянке Меланкте, вторую повесть Трех жизней которая была первым
решительным шагом на пути от девятнадцатого века к двадцатому в литературе.
Матисс написал Вопhеиr de Vivre и создал новую школу цвета отпечаток которой
вскоре будет лежать на всем. И все разъехались.
Тем летом в Италию приезжали Матиссы. Матисса она оставила равнодушным,
он предпочитал Францию и Марокко, а мадам Матисс была глубоко взволнована.
Сбылась девическая мечта. Она говорила, я все время себе говорю, я в Италии.
И я это все время говорю Анри и он рад за меня, но он говорит, ну и что.
Пикассо были в Испании и Фернанда писала длинные письма с описаниями
Испании, испанцев и землетрясений.
Не считая короткого визита Матиссов и короткого визита Элфи Морера
летняя жизнь во Флоренции никак не была связана с жизнью в Париже.
Гертруда Стайн и ее брат сняли на лето виллу на холме во Фьезоле под
Флоренцией, и несколько лет они проводили там лето. В год моего приезда в
Париж эту виллу заняли мы с приятельницей а Гертруда Стайн и ее брат заняли
более просторную виллу на другой стороне Фьезоле потому что тем летом к ним
приехал старший брат с женой и ребенком. Маленькая вилла, Каса Риччи, была
совершенно прелестная. Ее обжила шотландка которая родившись пресвитерианкой
стала ревностной
- 82-
католичкой и возила свою старую мать-пресвитерианку из одного монастыря
в другой. В конце концов они расположились в Каса Риччи и там она устроила
часовню и там умерла ее мать. Тогда она оставила ее и переселилась на более
просторную виллу которую превратила в приют для отошедших от дел
священников, а Гертруда Стайн и ее брат сняли у нее Каса Риччи. Гертруде
Стайн безумно нравилась ее домовладелица которая выглядела в точности как
придворная дама Марии Стюарт и во всех своих черных влачащихся по земле
одеждах преклоняла колени перед каждым католическим символом а потом могла
подняться по отвесной лестнице и открыть чердачное оконце чтобы посмотреть
на звезды. Странная смесь католической и протестантской экзальтации.
Служанка-француженка Элен не ездила во Фьезоле. Тогда она уже была
замужем. Летом она стряпала мужу и чинила чулки Гертруде Стайн и ее брату
привязывая к ним новые носки и пятки. Еще она варила варенье. В Италии была
Маддалена которая играла не менее важную роль чем Элен в Париже но едва ли
была такой же ценительницей знаменитостей. Италия слишком привыкла к
знаменитостям и их детям. О детях же это Эдвин Додж сказал, жизнь великих
людей часто напоминает нам о том что не следует оставлять после себя
потомство.
Гертруда Стайн обожала жару и солнце хотя она всегда говорит что в
Париже зимой идеальный климат. В те времена она всегда предпочитала ходить
гулять в полдень. Я, которая не люблю и
- 83-
никогда не любила летнее солнце, часто сопровождала ее. Иногда потом в
Испании я садилась под дерево и рыдала но она была на солнце неутомима. Она
даже могла лежать на солнце и смотреть прямо на летнее полуденное солнце,
она говорила что оно успокаивает ей глаза и голову.
Во Флоренции была занятная публика. Были Берензоны а у них в то время
была Глэдис Дикон, известная международная красавица, но после зимы
Монмартра Гертруда Стайн нашла что ее слишком легко шокировать чтобы она
была интересной. Потом были первые русские, фон Хайрот и его жена, та у
которой позднее было еще четыре мужа и которая как-то в шутку заметила что
со всеми своими мужьями она всегда была в прекрасных дружеских отношениях.
Он был глупый но симпатичный и рассказывал обычные русские истории Потом
были Торолдсы и многие другие. И что самое главное, была прекрасная
английская библиотека с разного рода странными биографиями которая для
Гертруды Стайн была источником неиссякаемого удовольствия. Однажды она
рассказывала мне что в молодости она очень много читала, читала все начиная
с елизаветинцев и кончая современными авторами и ужасно боялась когда-нибудь
остаться вообще без чтения. Годами ее преследовал этот страх но так или
иначе хотя она постоянно читает и читает, она как будто всегда находит что
еще читать. Ее старший брат обычно жаловался что хотя он каждый день
привозит из Флоренции столько книг сколько может унести, ровно столько же
приходится увозить обратно.
- 84-
Это тем летом Гертруда Стайн начала свою большую книгу, Становление
американцев.
Она начиналась со старого студенческого сочинения которое она написала
в Радклифе.
"Однажды рассерженный человек волок своего отца по земле его
собственного сада. "Стой! -- наконец закричал стонущий старик. -- Стой! Я
волок своего отца только до этого дерева".
"Трудно исправить характер с которым мы рождаемся. Мы все хорошо
начинаем. Ибо в юности мы ни к чему не относимся так нетерпимо как к нашим
собственным недостаткам явно выраженным у других, и мы жестоко боремся с
ними в себе; но мы стареем и мы понимаем что из всех недостатков какие можно
иметь эти наши недостатки в действительности самые невинные, более того, они
придают характеру обаяние и таким образом наша борьба с ними сходит на нет".
И это должна была быть история семьи. Это и была история семьи но когда я
приехала в Париж она начинала становиться историей всех людей, всех которые
когда-либо жили или живут или могли бы жить. Гертруду Стайн ничто так не
радовало за всю ее жизнь как перевод этой книги которым сейчас занимаются
Бернар Фай и мадам Сейер. Они с Бернаром Фаем только что вместе его смотрели
и как она говорит, это замечательно по-английски и не менее замечательно
по-французски. Элиот Пол в бытность редактором Транзишн как-то сказал что он
уверен что Гертруда Стайн могла бы быть бестселлером во Франции. Очень
похоже что его предсказание сбудется.
- 85-
Но вернемся к тем давним временам на Каса Риччи и к первоначалам тех
длинных предложений которым было суждено изменить литературные
представления очень многих людей.
Гертруда Стайн безумно много работала над началом Становления
американцев и вернулась в Париж вся во власти своих занятий. Это в то время
работая каждую ночь она часто бывала во время работы застигнута наступавшим
рассветом. Она вернулась в сильно взволнованный Париж. Во-первых она
вернулась к своему законченному портрету. В тот же день как Пикассо приехал
из Испании он сел и написал голову из головы ни разу не посмотрев на
Гертруду Стайн. И когда она увидела ее и он и она остались довольны. Как это
ни странно но оба совершенно не помнят как выглядела голова пока он ее не
записал. Есть еще одна прелестная история о портрете.
Всего несколько лет тому назад когда Гертруда Стайн коротко
подстриглась, до этого она всегда укладывала волосы на макушке короной как
на портрете Пикассо, когда она подстриглась то дня два спустя она как-то
зашла в комнату и Пикассо был через несколько комнат от нее. Она была в
шляпе но он ее увидел в две двери и стремительно подойдя к ней воскликнул,
Гертруда, что это, что это. Что что, Пабло, спросила она. Покажите, сказал
он. Она показала. А мой портрет, сурово спросил он. Затем его лицо
смягчилось и он добавил, mais, quand même, tout у est, все равно все есть.
Матисс был уже в Париже и в воздухе было волнение. Дерен, а с ним и
Брак, побывали на
- 86-
Монмартре. Брак был молодой художник который знал Мари Лорансен когда
оба еще учились живописи, они тогда писали портреты друг с друга. Потом Брак
писал довольно географические картины, округлые холмы и в цвете под очень
большим влиянием независимых работ Матисса. Он познакомился с Дереном если
только, но точно я не уверена, они не познакомились еще раньше в армии, и
теперь они познакомились с Пикассо. Это был волнующий момент.
Они стали проводить свои дни наверху и они всегда ели все вместе в
маленьком ресторанчике напротив и Пикассо стал особенно похож как говорила
Гертруда Стайн на маленького матадора во главе своей четверки или как она
позднее назвала его в его портрете на Наполеона во главе четверки своих
огромных гренадеров. Дерен и Брак были высоченные здоровые мужчины, и Гийом
был крупный, и Сальмон не маленький. Пикассо был лидер до мозга костей.
Теперь пора рассказать о Сальмоне и Гийоме Аполлинере хотя с ними
обоими и с Мари Лорансен Гертруда Стайн познакомилась задолго до всех этих
событий.
И Сальмон и Гийом Аполлинер жили в те времена на Монмартре. Сальмон был
очень тонкий и звонкий, но Гертруде Стайн он никогда не казался особенно
интересным. Он ей просто нравился. Зато Гийом Аполлинер был совершенно
замечательный. Приблизительно в то же самое время, когда Гертруда Стайн
только познакомилась с Гийомом Аполлинером, были эти волнения из-за дуэли
Аполли-
- 87-
нера с каким-то другим писателем. Фернанда и Пабло рассказывали об этом
с таким волнением, с таким хохотом и на таком густом монмартрском жаргоне,
это было самое начало их знакомства, что Гертруда Стайн всегда несколько
смутно представляла себе что же там все-таки произошло. Но суть заключалась
в том что Гийом вызвал кого-то на дуэль а его секундантом и свидетелем
должен был быть Макс Жакоб. Гийом и его соперник весь день сидели каждый в
своем любимом кафе и ждали а секунданты ходили туда-сюда. Чем это все
кончилось не считая того что никто ни с кем не дрался, Гертруда Стайн не
знает, но счета которые каждый секундант и свидетель принес своему дуэлисту
вызвали большое волнение. В счетах по пунктам перечислялись все разы когда
они пили кофе а конечно они должны были выпить чашечку кофе всякий раз когда
они сидели в том или в другом кафе с тем или с другим дуэлистом и опять же
когда секунданты сидели вдвоем друг с другом. Также возник вопрос при каких
обстоятельствах им было абсолютно необходимо взять к этой чашечке кофе рюмку
коньяку. И как часто они пили бы кофе если бы не были секундантами. Все это
повлекло за собой бесконечные встречи бесконечные споры и бесконечные
добавления к счетам. Продолжалось это много дней, а может быть недель или
месяцев, и заплатили ли в конце концов кому-нибудь, хотя бы хозяину кафе,
неизвестно. Аполлинер славился тем что было необычайно трудно заставить его
расстаться даже с самой мелкой монетой. Все это было очень увлекательно.
- 88-
Аполлинер был очень обаятельный и очень интересный. У него была голова
как у императора позднего Рима. У него был брат о котором слышали но
которого никогда не видели. Брат работал в банке и поэтому более или менее
прилично одевался. Когда кто-нибудь с Монмартра шел в такое место где
полагалось быть благопристойно одетым, например по делу или на свидание с
родственником, он всегда брал взаймы пиджак или брюки у брата Аполлинера.
У Гийома была необычайно ясная голова и о каком бы предмете ни заходила
речь, знал он о нем что-то или не знал, он сразу представлял его себе в
целом, а затем со своим умом и воображением пускался о нем рассуждать и
рассуждал гораздо смелее чем мог бы знающий человек, и как ни странно обычно
правильно.
Однажды, несколько лет спустя, мы обедали у Пикассо и я переспорила
Гийома. Я очень возгордилась но Ева (Пикассо уже расстался с Фернандой)
сказала, Гийом был страшно пьян иначе этого бы не произошло. Только в таком
случае можно было оставить за собой последнее слово. Бедный Гийом. В
последний раз мы виделись с ним после того как он возвратился с фронта в
Париж. Он был тяжело ранен в голову и ему удалили часть черепа. Он очень
замечательно выглядел в своем bleu horison* и с перевязанной головой. Он
пришел к обеду а потом мы долго разговаривали. Он устал и его крупная
голова сонно падала на грудь.
* серо-голубой (фр.)
- 89-
Он держался очень серьезно почти напыщенно. Вскоре мы уехали, мы
работали в Американском фонде помощи французским раненым, и не видели его
больше. Потом от Ольги Пикассо, жены Пикассо, мы узнали что в ночь Перемирия
Гийом Аполлинер умер, они были возле него весь вечер было тепло и были
открыты окна а толпа на улице кричала, а bas Guillaume, долой Вильгельма, а
Гийома Аполлинера все всегда называли Гийом и даже на смертном одре его
тревожили эти крики.
Он действительно вел себя как герой. Иностранцу Гийому, мать его была
полька, отец может быть итальянец, было вовсе не обязательно добровольцем
идти на фронт. Он был вальяжный мужчина, привыкший к литературной жизни и
радостям застолья, и несмотря ни на что он пошел в добровольцы. Сначала он
пошел в артиллерию. Так советовали все потому что в артиллерии было легче и
безопаснее чем в пехоте, но через некоторое время эта полузащищенность
начала его тяготить и он перевелся в пехоту и был ранен во время атаки. Он
долго лежал в госпитале, понемногу стал поправляться, тогда мы и увиделись,
и в конце концов умер в день Перемирия.
Смерть Гийома Аполлинера в такое время многое меняла для всех его
друзей помимо того какой скорбью обернулась для них его смерть. Это было
время сразу после войны когда многое стало по-другому и люди естественно
расходились. Гийом был бы связующим звеном, у него всегда был талант
соединять людей, а теперь когда он ушел из жизни все перестали дружить. Но
все это было
- 90-
уже намного позже а теперь давайте вернемся к началу когда Гертруда
Стайн познакомилась с Гийомом Аполлинером и Мари Лорансен.
Гертруду Стайн все называли Гертруда или в крайнем случае мадемуазель
Гертруда, Пикассо все называли Пабло а Фернанду Фернанда и Гийома Аполлинера
все называли Гийом а Макса Жакоба Макс но Мари Лорансен все называли Мари
Лорансен.
В первый раз Гертруда Стайн увидела Мари Лорансен когда Гийом Аполлинер
пришел с ней на рю де Флерюс, но не в субботний вечер а в какой-то другой.
Она была очень интересная. Они были необыкновенной парой, Мари Лорансен была
чудовищно близорука и конечно же она не носила очки, в те времена ни одна
француженка и почти ни один француз их не носили. Она пользовалась
лорнеткой.
Она внимательно рассмотрела все картины, вернее, все картины на уровне
глаз, почти касаясь лицом холста и постепенно передвигаясь вдоль него со
своей лорнеткой, каждый раз приблизительно на дюйм. Картины выше или ниже
уровня глаз она оставила без внимания. В конце концов она сказала, сама я
больше всего люблю портреты и это конечно вполне естественно потому что сама
я женщина Клуэ. И действительно, она была женщина Клуэ. Она была худая и
угловатая как средневековая француженка с французского примитива. Она
говорила высоким голосом с красивыми модуляциями. Она села на диван рядом с
Гертрудой Стайн и повествовала ей историю своей жиз-
- 91-
ни, рассказала что ее мать у которой всегда было в характере не любить
мужчин долго состояла в связи с одним важным господином и родила ее, Мари
Лорансен. Я до сих пор не решаюсь, сказала она, познакомить с ней Гийома,
хотя конечно он такой милый что не может ей не понравиться, но лучше не
надо. Когда-нибудь вы ее увидите.
И позднее Гертруда Стайн увидела мать а к тому времени я уже была в
Париже и меня тоже взяли.
Живя своей странной жизнью и создавая свое странное искусство, Мари
Лорансен жила с матерью, очень спокойной, очень приятной, очень исполненной
достоинства женщиной, и так как будто они обе жили в монастыре. В их
небольшой квартире повсюду висели вышивки матери по рисункам Мари Лорансен.
Мари Лорансен и ее мать вели себя друг с другом в точности как молодая
монахиня с более почтенной. Все было очень странно. Потом перед самым
началом войны мать заболела и умерла. Но прежде мать действительно увидела и
полюбила Гийома Аполлинера.
После смерти матери Мари Лорансен совершенно утратила душевное
равновесие. Она перестала встречаться с Гийомом. Отношения которые
существовали все то время пока мать была жива без ведома матери, не могли
продолжаться когда мать умерла прежде увидев и полюбив Гийома. Вопреки
советам друзей Мари вышла замуж за немца. Когда друзья пытались ее
отговаривать она отвечала, но он единственный с кем я чувствую себя как с
мамой.
Через полтора месяца после ее замужества началась война и Мари вышедшей
замуж за немца
- 92-
пришлось уехать из Франции. Как она сказала потом, когда во время войны
мы однажды встретились в Испании, власти естественно ничего сделать ей не
могли, но паспорту было ясно что кто ее отец неизвестно и они естественно
боялись потому что он мог бы быть и президентом Французской республики.
Всю войну Мари была несчастна. Она была абсолютно француженка а
формально она была немка. Встречая знакомых она говорила, позвольте
представить вам моего мужа боша, не помню как его зовут. Официальные
французские круги в Испании с которыми они с мужем иногда сталкивались
доставляли ей много неприятностей постоянно называя Германию ее страной. В
то же время Гийом с которым она переписывалась слал страстные патриотические
письма. Это было ужасное время для Мари Лорансен.
В конце концов мадам Грульт, сестре Пуаре, удалось, приехав в Испанию,
вызволить Мари из ее бедственного положения. В конце концов она развелась с
мужем и после перемирия возвратилась в Париж, вновь обретая почву под
ногами. И тогда же она опять появилась на рю де Флерюс, уже с Эриком Сати.
Они оба были нормандцы и очень этим счастливы и горды.
Давным давно Мари Лорансен написала странную картину, портрет Гийома,
Пикассо, Фернанды и самой себя. Фернанда рассказала об этом Гертруде Стайн.
Гертруда Стайн купила ее и Мари Лорансен ужасно обрадовалась. Эта была ее
первая картина которую купили.
- 93-
Еще тогда когда Гертруда Стайн не знала о существовании рю Равиньян
Гийом Аполлинер впервые нанялся на работу, он редактировал брошюру о
физической культуре. Для этой самой брошюры Пикассо нарисовал свои чудесные
картикатуры, в том числе и карикатуру на Гийома как пример того что может
сделать физическая культура.
А теперь еще раз вернемся к тому как все вернулись из своих путешествий
и Пикассо возглавил направление впоследствии именуемое кубизмом. Кто первый
назвал их кубистами я не знаю, но скорее всего Аполлинер. Во всяком случае,
он написал обо всех них первую маленькую книжку и проиллюстрировал ее их
картинами.
Я так хорошо помню как Гертруда Стайн в первый раз взяла меня в гости к
Аполлинеру. Мы пришли в крошечную холостяцкую квартиру на рю де Мартир. В
комнате толпилось много маленьких юных джентльменов. Кто, спросила я
Фернанду, все эти человечки. Поэты, ответила Фернанда. Я была поражена.
Прежде я никогда не видела поэтов, поэта да а поэтов нет. А еще в тот вечер
Пикассо, в легком подпитии и к большому негодованию Фернанды, упорно хотел
сесть со мной рядом и показать мне в испанском фотоальбоме то самое место
где он родился. Я ушла с весьма смутными представлениями о том где оно
находится.
Дерен и Брак стали последователями Пикассо приблизительно через полгода
после того как Пикассо через Гертруду Стайн и ее брата познакомился с
Матиссом. Тем временем Матисс познакомил Пикассо с негритянской скульптурой.
- 94-
Негритянская скульптура была тогда уже хорошо известна собирателям
редкостей но не художникам. Кто первый понял ее потенциальное значение для
современного художника я могу точно сказать что не знаю. Может быть это был
Майоль который родился под Перпиньяном и на юге познакомился с Матиссом и
обратил на нее его внимание. Есть мнение что это был Дерен. Также очень
возможно что это был сам Матисс потому что на рю де Ренн много лет была
антикварная лавка где всегда стояло много таких скульптур в витрине а Матисс
часто ходил по рю де Ренн когда шел в класс наброска
Во всяком случае, именно Матисс первым испытал влияние негритянских
статуй, не столько в живописи сколько в скульптуре, и это Матисс привлек к
ним внимание Пикассо как раз тогда когда Пикассо закончил портрет Гертруды
Стайн.
Африканское искусство воздействовало на Матисса и на Пикассо совершенно
по-разному. У Матисса оно воздействовало скорее на воображение чем на
восприятие, у Пикассо скорее на восприятие чем на воображение. Как ни
странно лишь в гораздо более поздние годы оно повлияло на его воображение, и
может быть потому что его воздействие подкрепилось ориентализмом русских
когда он соприкоснулся с ним через Дягилева и русский балет.
В те далекие времена когда он создавал кубизм воздействие африканского
искусства затрагивало только его восприятие форм, его воображение оставалось
совершенно испанским. Развитию испан-
- 95-
ского начала ритуальности и абстрактности на самом деле способствовала
работа над портретом Гертруды Стайн. Она и тогда и всегда испытывала явную
предрасположенность к элементарной абстракции. Она совсем никогда не
интересовалась негритянской скульптурой. Она всегда говорит что эта
скульптура ей вполне нравилась но что она не имеет отношения к европейцам,
что ей не хватает наивности, что она очень древняя очень узкая очень
изощренная, но ей не хватает изысканности египетской скульптуры в которую
она уходит корнями. Она говорит что ей как американке нравится чтобы
примитивное было более диким.
Представленные тогда друг другу Гертрудой Стайн и ее братом Матисс и
Пикассо стали дружить но были врагами. Теперь они ни то ни другое. В то
время они были друзья и враги.
Они обменялись картинами как было принято в те годы. Каждый художник
выбирал у другого ту картину, которая вероятно представлялась, ему наиболее
интересной. И Матисс и Пикассо выбрали друг у друга безусловно по самой
неинтересной картине когда-либо написанной каждым. Позднее каждый
использовал эту выбранную им картину как пример недостатков другого.
Совершенно ясно что и в той и в другой выбранной картине достоинства каждого
художника были не вполне очевидны.
Отношения между пикасситами и матисситами обострились. А это, как вы
понимаете, ведет нас на выставку независимых, где сами того не подозревая мы
с приятельницей сидели под двумя
- 96-
картинами которые впервые выставили Дерена и Брака на публике
законченными пикасситами и безусловно не матисситами.
Тем временем естественно много что произошло.
Матисс постоянно выставлялся в осеннем салоне и у независимых. У него
появились последователи и довольно много. Пикассо, напротив, никогда за всю
свою жизнь ни в каких салонах не выставлялся. Увидеть его картины тогда было
можно действтельно только на рю де Флерюс. Можно сказать что он впервые
выставлялся на публике в тот раз когда Дерен и Брак, находившиеся полностью
под влиянием его последних работ, выставили свои работы. Тогда и у него
появилось много последователей.
Матисса раздражала крепнущая дружба между Пикассо и Гертрудой Стайн.
Мадемуазель Гертруда, объяснял он, любит местный колорит и театральность. Не
может быть чтобы человека ее круга связывала настоящая дружба с человеком
наподобие Пикассо. Матисс все еще часто. приходил на рю де Флерюс, но
искреннего общения между всеми ними уже не было. Это приблизительно в это
время Гертруда Стайн и ее брат дали обед всем художникам чьи картины висели
на стенах. Покойные и старые мастера конечно в нем не участвовали. Это на
этом самом обеде Гертруда Стайн, как я уже говорила, обеспечила им всем
счастье и обеспечила обеду успех усадив каждого художника лицом к его
собственной картине. Никто из них этого не заметил, они просто испытывали
по-
- 97-
нятное удовлетворение, и только тогда когда все уже расходились Матисс
стоя к двери спиной и заглянув в комнату вдруг понял что с ними проделали.
Матисс заявил что Гертруда Стайн потеряла интерес к его творчеству. Она
ответила, вы не боретесь с самим собой а ведь до сих пор инстинктивно
стремились вызвать враждебность в других чтобы побудить себя нападать. А
теперь вам следуют.
Так закончился тот разговор но началась одна важная часть Становления
американцев. Эту мысль Гертруда Стайн положила в основу одного из наиболее
для нее постоянных принципов различения типов людей.
Приблизительно в это же время Матисс начал преподавать. Теперь он
переехал с набережной Сен-Мишель где он жил с тех пор как женился на бульвар
Инвалидов. В результате отделения церкви от государства которое только что
произошло тогда во Франции во владении французского государства оказалось
очень много церковных школ и другой церковной собственности. Многие из этих
монастырей уже прекратили свое существование и очень многие их здания тогда
пустовали. В том числе и совершенно замечательное здание на бульваре
Инвалидов.
Эти здания сдавались внаем очень дешево но без договора потому что
определив их постоянное назначение французское государство собиралось
выселять съемщиков без предупреждения. Следовательно это было идеальное
жилье для художни-
- 98-
ков, там были сады и большие залы а с неудобными условиями аренды в
данном случае можно было смириться. Итак Матиссы переехали и у Матисса
вместо маленькой комнатушки появился для работы огромный зал, обоих
мальчиков забрали домой и все они были безумно счастливы. Затем некоторые из
тех кто уже стали его последователями спросили не захочет ли он их учить
если класс устроят в том же доме где он живет. Он согласился и появилось
ателье Матисса.
Желающие были самых разных национальностей и поначалу Матисс пришел в
ужас от их разнообразия и количества. Очень веселясь а также удивляясь он
рассказывал что когда он спросил одну очень маленькую женщину в первом ряду
что она хочет сказать своей живописью, что она ищет, она ответила, Monsieur,
je cherche le neuf*. Он совершенно не понимал как они все сумели выучить
французский тогда как он не знал ни одного из их языков. Кто-то заполучил
эти сведения и высмеял школу в одном французском еженедельнике. Матисс был
невероятно уязвлен. В статье задавали вопрос, а откуда приехали все эти
люди, и отвечали, из Массачусетса. Матиссу было очень неприятно.
Но несмотря на все это и несмотря на многочисленные разногласия школа
процветала Были трудности. Один венгр захотел зарабатывать на жизнь позируя
классу а в перерывах когда позирует кто-нибудь другой продолжать занятия
живописью.
* Месье, я ищу новое (искаж. фр.). Игра слов: lе neuf -- девятка.
- 99-
Некоторые молодые женщины возмутились, обнаженная модель на помосте это
одно но когда она становится твоим соучеником это совсем другое. Еще одною
венгра застали за поеданием хлеба для стирания карандашных рисунков который
эти разнообразные ученики оставляли на мольбертах, и такое свидетельство
крайней бедности и полного пренебрежения гигиеной произвело ужасающее
впечатление на тонко организованные натуры американцев. Американцев было
довольно много. Кто-то из этих самых американцев под предлогом бедности
получал образование бесплатно а потом выяснилось что он купил маленького
Матисса, маленького Сера и маленького Пикассо. Это было не только бесчестно,
потому что многие хотели бы но не могли позволить себе иметь картину мастера
и они за образование платили, но поскольку он к тому же купил Пикассо, это
было еще и предательство. И потом то и дело кто-нибудь что-нибудь говорил
Матиссу на таком ломаном французском что получалось совсем не то что он
хотел сказать. Матисс очень сердился и несчастного приходилось учить
правильно извиняться. Все ученики работали в таком напряжении что часто
случались взрывы. Один начинал обвинять другого в давлении на мастера а
потом были долгие сложные объяснения в ходе которых кто-то обычно должен был
извиняться. Все было очень непросто потому что они сами руководили собой.
Гертруда Стайн получала от всех этих сложностей колоссальное
удовольствие. Матисс был большой мастер злословить и она тоже и они обожали
друг с другом сплетничать.
-100-
В то время она начала всегда называть Матисса С М., сhег maitre*.
Матисс совсем не редко захаживал на рю де Флерюс. Она рассказала ему свою
любимую историю из жизни Запада, джентльмены, прошу без кровопролития. И как
раз в то время Элен приготовила ему яичницу вместо омлета
Три жизни перепечатали и теперь нужно было показать их издателю. Кто-то
назвал Гертруде Стайн литературного агента в Нью-Йорке и она к нему
обратилась. Из этого ничего не вышло. Тогда она стала обращаться к издателям
непосредственно. Только Боббс-Меррил как будто проявил интерес а потом там
сказали что они не возьмутся. Попытка найти издателя продолжалась еще
некоторое, время а потом, не особенно огорчившись, она решила что сама себя
напечатает. Это была вовсе не странная мысль, в Париже так делали многие.
Кто-то сказал ей о нью-йоркской Графтон-Пресс, солидной фирме которая
печатала специальные исторические сочинения если людям хотелось их
напечатать. Договорились об условиях. Три жизни должны были напечатать и
прислать корректуру.
Однажды кто-то постучал в дверь и очень милый очень американского вида
молодой человек спросил может ли он поговорить с мисс Стайн. Она сказала да,
заходите. Он сказал, я из Графтон-Пресс. Да, сказала она Видите ли, сказал
он в некотором замешательстве, у директора Графтон-Пресс возникло
впечатление что может быть ваше знание английского. Но я американка,
возмущен-
* Уважаемый мэтр (фр.)
-101-
но сказала Гертруда Стайн. Да, да, сказал он, теперь я это прекрасно
понимаю, но может быть вам мало приходилось писать. По-видимому, со смехом
сказала она, у вас возникло впечатление что я недостаточно образована. Он
покраснел, нет, что вы, сказал он, просто может быть вам мало приходилось
писать. О да, сказала она, о да. Ну ничего страшного. Я напишу директору и
вы тоже можете ему передать что все что написано в рукописи написано с тем
чтобы быть так написанным и ему нужно только печатать а ответственность я
беру на себя. Молодой человек откланялся.
Потом когда на книгу откликнулись заинтересовавшиеся писатели и
журналисты директор Графтон-Пресс прислал Гертруде Стайн очень
незамысловатое письмо в котором признавался что он удивлен тем какой отклик
получила книга но хотел бы добавить что видя результат он хочет сказать что
очень доволен тем что его фирма все-таки напечатала книгу. Но письмо было
уже после моего приезда в Париж.
-102-
-103-
Часть четвертая. ГЕРТРУДА СТАЙН ДО ПРИЕЗДА В ПАРИЖ
И опять я приехала в Париж и теперь я уже в числе завсегдатаев рю де
Флерюс. Гертруда Стайн писала Становление американцев и только что начала
править корректуру Трех жизней. Я помогала ей ее править.
Гертруда Стайн родилась в Аллегани, Пенсильвания. Поскольку я
ревностная калифорнийка а в Калифорнии прошла ее юность, я ее часто просила
там и родиться, но она всегда продолжала упорно рождаться в Аллегани,
Пенсильвания. Она уехала из этого Аллегани шести месяцев от роду и с тех пор
ни разу его не видела, а теперь Аллегани больше нет потому что теперь это
Питсбург. Тем не менее она обожала рождаться в Аллегани, Пенсильвания, когда
во время войны нам постоянно оформляли пропуска для работы по содействию
фронту и всегда сперва хотели узнать место рождения. Она говорила, что если
бы, как я того хотела, она действительно родилась в Калифорнии, то она была
бы лишена удовольствия видеть как разные французские чиновники пытаются
написать Аллегани, Пенсильвания.
Когда я только познакомилась с Гертрудой Стайн в Париже я часто
удивлялась тому что у нее на столе никогда не увидишь французской книги хотя
было очень много английских, не было даже французских газет. Неужели вы
никогда не читаете по-французски, спросила я ее как спрашивали
-105-
многие другие. Нет, ответила она, понимаете, я чувствую глазами и мне
все равно что за язык я слышу, я слышу не язык, я слышу ритмы и модуляции
голоса, но глазами я вижу слова и предложения и для меня существует один
язык и этот язык английский. Мне еще нравилось все эти годы быть окруженной
людьми которые не знают английский. Так я оказывалась полнее наедине с
моими глазами и моим английским. Не знаю, стал ли бы иначе английский
целиком моим. И ведь никто из них не мог прочесть ни единого моего слова,
они большей частью даже не знали что я пишу. Нет, мне нравится жить среди
людей и быть совершенно одной со своим английским и самой, собой.
Одна глава Становления американцев начинается словами: Я пишу для себя
и для чужих.
Она родилась в Аллегани, Пенсильвания, в очень добропорядочной
буржуазной семье. Она всегда говорит что благодарна судьбе за то что
родилась не в семье интеллектуалов, она терпеть не может как она ее
называет, интеллектуальную публику. Было всегда довольно нелепо, что она,
кто со всеми на свете накоротке, так что она их понимает, и они ее тоже,
была всегда кумиром рафинированных. Но она всегда говорит, когда-нибудь они,
кто угодно, вдруг поймут, что она им интересна, интересна она и интересно то
что она пишет. И она всегда утешает себя тем что газетам интересно всегда
Там всегда говорят, говорит она, что я пишу чудовищно но цитируют, и более
того, цитируют правильно, а те кто говорят что я их кумир, те не
-106-
цитируют. В некоторые самые горькие минуты это бывало утешением. Мои
предложения все-таки залезают им в печенки только они не понимают что они
залезают, часто говорит она.
Она родилась в Аллегани, штат Пенсильвания, в доме, в одном из
домов-близнецов. Ее семья жила в одном, а семья брата ее отца в другом. Эти
две семьи и есть семьи, описанные в Становлении американцев. Они уже лет
восемь жили в этих домах когда родилась Гертруда Стайн. За год до ее
рождения жены братьев, которые и прежде не очень ладили друг с другом,
вообще перестали разговаривать.
Мать Гертруды Стайн, маленькая добрая милая вспыльчивая женщина, как
она описывает ее в Становлении американцев, наотрез отказалась впредь видеть
свояченицу. Не знаю что именно но что-то произошло. Во всяком случае братья
которые прежде были очень преуспевающими деловыми партнерами разорвали свое
партнерство, один брат уехал в Нью-Йорк, где он и вслед за ним вся его семья
сильно разбогатели, а другой брат, семья Гертруды Стайн, уехал в Европу.
Сначала они поехали в Вену и жили там до тех пор пока Гертруде Стайн не
исполнилось года три. Все что она помнит об этом это что когда ей однажды
разрешили посидеть на уроках у братьев, учитель брата писывал тигриный оскал
и ей сделалось приятно жутко. Еще что в книжке с картинками которую ей
показывал один из ее братьев была история странствий Улисса который сидел на
гнутых стульях когда он сидел. Еще она помнит что они играли
-107-
в саду и по этому саду часто прогуливался старый кайзер Франц-Иосиф а
оркестр иногда играл австрийский национальный гимн и гимн ей нравился. Много
лет она считала что кайзер это настоящее имя Франца-Иосифа и не могла
смириться с тем что оно принадлежит кому-то еще.
Они прожили в Вене три года, отец тем временем уехал по делам обратно в
Америку, а потом они переехали в Париж. О Париже у Гертруды Стайн
сохранились более яркие воспоминания. Она помнит маленький пансион куда
отдали их со старшей сестрой и где в углу двора сидела маленькая девочка а
другие маленькие девочки сказали к ней не подходить, она царапалась. Еще она
помнит тарелку супа с французской булкой на завтрак и еще она помнит что на
обед давали шпинат и баранину, она очень любила шпинат и не любила баранину
и поэтому меняла баранину на шпинат у маленькой девочки сидевшей напротив.
Еще она помнит, как все три ее старших брата приехали и приехали верхом к
ним в пансион. Еще она помнит как с крыши их дома в Пасси спрыгнула черная
кошка и мать испугалась а какой-то незнакомый человек ее спас.
Они прожили год в Париже а затем вернулись в Америку. Старший брат
Гертруды Стайн прелестно описывает последние дни когда они с матерью ходили
по магазинам и покупали все что было душе угодно, шубы, шапки и рукавицы из
нерпы на все семейство начиная с матери кончая младшей сестренкой Гертрудой
Стайн, перчатки, десятки пар перчаток, прекрасные шляпы, костюмы для
верховой езды, завершив покупки приобретением мик-
-108-
роскопа и полного комплекта знаменитой французской истории зоологии.
Потом они сели на пароход и поплыли в Америку.
Этот год в Париже произвел на Гертруду Стайн очень сильное впечатление.
Когда мы с ней уехав в Англию и застигнутые там войной вернулись только в
октябре, приехав в Париж в начале войны, в первый день когда мы вышли на
улицу Гертруда Стайн сказала, странно, Париж совсем другой но такой знакомый
и потом задумчиво, я понимаю, в чем дело, нет никого кроме французов (еще не
было ни солдат, ни союзников), видно только детей в черных передничках,
видно улицы, потому что на них никого нет, именно таким я помню Париж, когда
мне было три года Мостовые пахнут как раньше (снова стали ездить на
лошадях), этим хорошо запомнившимся мне запахом французских улиц и
французских парков.
Они поехали обратно в Америку и в Нью-Йорке нью-йоркское семейство
попыталось помирить мать Гертруды Стайн со свояченицей но мать была
непреклонна
В связи с этим мне вспоминается мисс Этта Коун, дальняя балтиморская
родственница Гертруды Стайн которая печатала Три жизни. Когда я
познакомилась с ней во Флоренции она в приливе откровенности сказала что
умеет простить но не забыть. Я же сказала что я умею забыть но не простить.
Мать Гертруды Стайн была в таком случае явно не способна ни на то, ни на
другое.
Семейство поехало на запад в Калифорнию прежде недолго погостив в
Балтиморе у ее деда,
-109-
того самого набожного старика которого она описывает в Становлении
американцев, он жил в старом доме в Балтиморе в окружении множества
симпатичных веселых человечков, ее дядюшек и тетушек.
Гертруда Стайн будет вечно благодарна своей матери за то что она и не
забывала и не прощала. Подумать только, говорит она, ведь если бы моя мать
простила свояченицу а отец вошел в дело с дядей, мы бы жили и росли в
Нью-Йорке, подумать только, говорит она, какой ужас. Мы были бы богатые, а
не в разумных пределах бедные, но подумать только какой ужас вырасти в
Нью-Йорке.
Я как калифорнийка полностью разделяю эти чувства.
Итак они сели в поезд и поехали в Калифорнию. Из этого путешествия
Гертруда Стайн помнит только что на них с сестрой надели большие красивые
австрийские красные фетровые шляпы с красивыми страусиными перьями, и на
каком-то этапе путешествия сестра высунулась из окна и ее шляпу сдуло
ветром. Отец позвонил в аварийный звонок, остановил поезд и подобрал шляпу к
ужасу и изумлению пассажиров и проводника. Кроме этого она помнит только что
у них была чудная корзинка с едой которую им дали в дорогу балтиморские
тетушки и что в ней была замечательная индюшка. И что потом запасы еды
пополнялись на каждой остановке в течение всего пути и это всегда было
ужасно интересно. И еще что в одном месте в пустыне они видели индейцев и
еще что в другом месте в пустыне их угостили странными на вкус персиками.
-110-
Когда они приехали в Калифорнию они пошли в апельсиновую рощу но
апельсинов она не помнит, а помнит как собирала в отцовскую коробку для
сигар чудесные маленькие лимончики. Медленно, на перекладных они добрались
до Сан-Франциско и устроились в Окленде. Она помнит что эвкалипты казались
высокими тонкими и первобытными а жизнь животного мира очень буйной. Но все
это и многое другое, всю физическую жизнь тех лет она описала в истории
семьи Гершланд из Становления американцев. А теперь важно рассказать о ее
образовании.
Ее отец который вывез детей в Европу дабы они могли воспользоваться
преимуществами европейского образования теперь настаивал на том чтобы они
забыли немецкий и французский дабы их американский английский был чист.
Гертруда Стайн бойко болтала по-немецки а потом по-французски но не читала
пока не стала читать по-английски. Зрение, как она сама говорит, было для
нее важнее чем слух и ее единственным языком оказался тогда как всегда
английский.
С этого времени началась ее книжная жизнь. Она читала все печатное что
попадалось ей под руку а ей много что попадалось под руку. Дома было
несколько разрозненных романов, несколько книг путевых заметок, материнские
подарочные издания Вордсворта, Скотта и других поэтов в хороших переплетах.
Путь пилигрима Баниана, комментированное собрание Шекспира, Бернс, протоколы
Конгресса, энциклопедии и так далее. Она прочитала все и по многу раз. Они с
братьями ста-
-111-
ли покупать другие книги. Еще была местная бесплатная библиотека с их
прекрасными собраниями литературы восемнадцатого и девятнадцатого веков. С
семи лет, когда она проглотила Шекспира и до четырнадцати, когда она прочла
Клариссу Гарлоу, Смоллета и так далее и беспокоилась что еще через несколько
лет она прочтет все и ничего непрочитанного не останется, она непрерывно
жила с английским языком. Она ужасно много прочла по истории, она часто
смеется и говорит что она одна из тех немногих в своем поколении кто прочел
от корки до корки Фридриха Великого, Карлайла и Конституционную историю
Англии Леки и вместе с тем Чарльза Грандисона и самые длинные поэмы
Вордсворта В сущности она читала и продолжает читать всегда. Она читает все
и вся и даже теперь очень не любит когда ей мешают и самое главное сколько
бы раз она ни читала книгу, пусть даже самую глупую, ни в коем случае нельзя
смеяться и говорить, что будет дальше. Для нее она продолжает быть и была
всегда реальностью.
Театр она всегда любила меньше. Она говорит, что там все слишком
быстро, ее смущает смешение зрения и слуха, а ее чувства никогда не
поспевают за действием. Музыку она любила только в ранней юности. Ей трудно
слушать музыку, у нее рассеивается внимание. Что конечно может показаться
странным потому что ведь так часто говорилось что ее творчество обращено к
слуху и подсознанию. На самом деле активную и важную роль у нее играют и
участвуют в отборе именно зрение и ум.
-112-
Жизнь в Калифорнии подошла к концу когда Гертруде Стайн было лет
семнадцать. Последние несколько лет были очень одинокие и проведены были в
муках переходного возраста. После смерти сначала матери а потом отца они с
сестрой и одним из братьев уехали из Калифорнии на восток. Они приехали в
Балтимор и стали жить у родственников ее матери. Там у нее стало проходить
чувство одиночества. Она часто рассказывала мне как странен был переход от
довольно безысходной внутренней жизни нескольких предыдущих лет к веселой
жизни ее тетушек и дядюшек. Потом когда она училась в Радклифе она описала
это ощущение в самой первой написанной ею вещи. Не в самой первой написанной
ею вещи. Она помнит, что до этого писала дважды. Один раз когда ей было лет
восемь она попробовала написать шекспировскую драму и дошла до ремарки,
придворные остроумно шутят. А дальше не смогла придумать ни одной остроумной
шутки и бросила.
Вторая и последняя запомнившаяся ей попытка была вероятно предпринята
приблизительно в том же возрасте. Детям в школе задали описание. Она помнит
что описывала закат и солнце у нее садилось в пещеру из облаков. Во всяком
случае ее описание было в числе шести отобранных во всей школе описаний,
которые должны были переписать на красивую пергаментную бумагу. Она начинала
переписывать дважды а почерк у нее делался все хуже и хуже и тогда ей
пришлось дать кому-то переписать за нее. Учительница сочла что это
бесчестно. Сама она, насколько она помнит, так не считала.
-113-
Вообще почерк у нее всегда был ужасный и очень часто я могу его
разобрать а она нет.
Она никогда не могла и не хотела заниматься никакими изящными
искусствами. Она никогда не знает как что-то, комната, наряд, сад или что-то
еще будет выглядеть пока оно не готово. Она совсем не умеет рисовать. Она не
чувствует соотношения между предметом и листом бумаги. Когда она училась на
медицинском факультете на занятиях по анатомии нужно было рисовать и она так
и не поняла делая зарисовки как рисуется выпуклая а как вогнутая
поверхность. Она помнит что когда она была совсем маленькая ее учили
рисовать и определили в класс. Детям сказали чтобы дома они взяли чашку с
блюдцем и нарисовали и лучший рисунок получит приз, медаль из тисненой кожи,
а на следующей неделе ту же самую медаль снова дадут за лучший рисунок.
Гертруда Стайн пошла домой, рассказала об этом братьям и они поставили перед
ней красивую чашку с блюдцем и каждый объяснял как ее рисовать. Но
безуспешно. В конце концов кто-то из них нарисовал чашку вместо нее. Она
принесла ее в класс и получила кожаную медаль. А по дороге домой она играла
в какую-то игру и потеряла кожаную медаль. Класс рисования на этом
закончился.
Она говорит, что лучше не знать как делаются какие-то вещи если эти
вещи служат для развлечения. Нужно иметь одно всепоглощающее занятие, а в
остальном для полноты удовольствия нужно лишь созерцать результат. Так оно
обязательно принесет больше радости тем кто хоть немного понимает каким
образом это делается.
-114-
Она страстно привержена тому что французы называют métier* и она
утверждает, что у человека может быть только одно métier и только один язык.
Ее métier писать, а ее язык английский.
Наблюдательность и построение создают творческое воображение, то есть
при условии наличия творческого воображения. Вот чему она научила многих
молодых писателей. Однажды когда Хемингуэй написал в каком-то своем рассказе
что Гертруда Стайн всегда знает чем хороша та или другая картина Сезанна,
она посмотрела на него и сказала, Хемингуэй, наблюдения еще не литература.
Научившись у нее всему чему они могут, молодые часто обвиняют ее в
непомерной гордыне. Она говорит, да, конечно. Она сознает что в английской
литературе своего времени она единственная. Она всегда это знала и теперь
она это говорит.
Она прекрасно понимает основы творчества поэтому ее советы и критика
неоценимы для всех ее друзей. Как часто я слышала как Пикассо, когда она
что-то скажет о какой-то его картине и пояснит на примере того что она
пытается делать сама, говорит гасоntez-moi се1а. Иными словами, расскажите
мне об этом. Они даже сейчас подолгу беседуют наедине. Бок о бок, они сидят
на двух низких стульчиках у него в мастерской наверху и Пикассо говорит,
ехрliquez-moi се1а**. И они объясняют друг другу. Они говорят обо всем, о
картинах, о собаках, о смерти, о несчастье. Потому что Пикассо
* Ремесло (фр)
** Объясните мне (фр.)
-115-
испанец а жизнь это трагедия, горечь и несчастье. Часто Гертруда Стайн
спускается ко мне и гово
рит, Пабло меня убеждал что я не меньше несчастна чем он. Он
утверждает, что не меньше и по не менее весомым причинам. А вы несчастны,
спрашиваю я. Ну по моему виду, незаметно, правда, и она смеется. Он говорит,
говорит она, что незаметно потому что я сильнее духом но по-моему нет,
говорит она, нет, я не несчастна.
И вот проведя зиму в Балтиморе и став более человеком и менее
подростком и менее одинокой Гертруда Стайн поступила в Радклиф. Время в
Радклифе прошло замечательно.
Она входила в компанию гарвардских мужчин и радклифских женщин которые
жили в очень тесном и интересном общении. Один из них, молодой философ и
математик, занимавшийся психологическими исследованиями, оставил заметный
след в ее жизни. Под руководством Мюнстерберга они вместе разработали ряд
экспериментов по автоматическому письму. Результаты собственных
экспериментов Гертруды Стайн которые она записала и которые напечатали в
Гарвардском психологическом журнале были первым ее напечатанным сочинением.
Его очень интересно читать потому что там уже виден метод письма, который
будет позднее развит в Трех жизнях и Становлении американцев.
Самую важную роль в радклифской жизни Гертруды Стайн играл Уильям
Джеймс. Она жила в свое удовольствие и наслаждалась жизнью. Она была
секретарем философского клуба и проводила вре-
-116-
мя с самыми разными людьми. Ей нравилось устраивать несерьезные опросы
и так же нравилось отвечать самой. Ей все нравилось. Но действительно
незабываемое впечатление от Радклифа у нее осталось благодаря Уильяму
Джеймсу.
Довольно странно что тогда она совсем не интересовалась Генри Джеймсом
перед которым сейчас она испытывает глубочайшее восхищение и которого она
совершенно определенно считает своим предшественником потому что он был
единственный писатель девятнадцатого века ощутивший потому что он был
американец методу двадцатого. Гертруда Стайн всегда говорит об Америке как о
самой старой сейчас в мире стране потому что методами ведения гражданской
войны и последующими экономическими концепциями Америка создала двадцатый
век, а поскольку все остальные страны сейчас живут или начинают жить в
двадцатом веке то Америка которая начала создавать двадцатый век в
шестидесятых годах девятнадцатого сейчас самая старая в мире страна
Точно так же она утверждает что Генри Джеймс первый в литературе нашел
пути к литературным методам двадцатого века. Но как ни странно весь период
своего взросления она не читала его и совершенно им не интересовалась. Но
как она часто говорит, для человека всегда естественно отторжение от
родителей и влечение к прародителям. Родители слишком близко, они мешают,
нужно одиночество. Так что может быть вот почему Гертруда Стайн читает Генри
Джеймса только совсем недавно.
-117-
Уильям Джеймс ее восхищал. Его личность и преподавание и привычка
шутить с самим собой и со студентами, все ей нравилось. Держите ум открытым,
говорил он, а когда кто-нибудь возражал, профессор Джеймс, но ведь то что я
говорю, это правда. Да, отвечал Джеймс, жалкая правда.
У Гертруды Стайн никогда не было подсознательных реакций и испытуемым
для автоматического письма она тоже оказалась неподходящим. На
психологическом семинаре который по особой просьбе Уильяма Джеймса посещала
Гертруда Стайн хотя она училась уже на последнем курсе, один студент
проводил эксперименты по подсознательному внушению. Свой доклад о
результатах эксперимента он начал с того что сказал что один из испытуемых
не дал решительно никаких результатов, а поскольку это сильно ухудшило общий
результат и сделало заключительную часть его эксперимента недействительной,
он хотел бы чтобы ему позволили исключить эти показания. Чьи это показания,
спросил Джеймс. Мисс Стайн, ответил студент. А, сказал Джеймс, если мисс
Стайн никак не реагировала то я бы сказал что не реагировать так же
естественно как и реагировать и ее резюме безусловно нельзя исключать.
Был чудесный весенний день, Гертруда Стайн каждый вечер ходила в оперу
и днем тоже ходила в оперу а было время выпускных экзаменов и был экзамен по
курсу Уильяма Джеймса. Она села перед экзаменационным листом и просто не
смогла. Дорогой профессор Джеймс, написала она на верху листа, извините
пожалуйста, но у меня действи-
-118-
тельно сегодня настроение совершенно не для экзамена по философии, и
ушла.
На следующий день она получила открытку от Уильяма Джеймса, в которой
говорилось, дорогая мисс Стайн, я прекрасно понимаю какое у вас настроение у
меня самого оно часто бывает такое. И ниже он поставил ей высший бал на всем
курсе.
Когда Гертруда Стайн заканчивала последний курс в Радклифе Уильям
Джеймс однажды спросил ее чем она собирается заниматься. Она ответила что
совершенно себе не представляет. Ну, сказал он, вам нужно заниматься или
философией или психологией. А для философии нужна высшая математика но я
никогда не замечал, чтобы она вас интересовала. А для психологии нужно
медицинское образование, медицинское образование открывает все двери, как
говорил мне Оливер Уэнделл Холмс а я говорю вам. Гертруда Стайн
интересовалась и химией и биологией так что медицинский факультет не
представлял сложностей.
Сложностей не было не считая того что Гертруда Стайн сдала только
половину вступительных экзаменов в Радклиф потому что никогда не собиралась
сдавать на диплом. Тем не менее ценой большого напряжения и вынужденных
занятий с репетиторами Гертруда Стайн поступила на медицинский факультет
университета Джона Хопкинса.
Несколько лет спустя когда знакомство Гертруды Стайн и ее брата с
Матиссом и Пикассо только начиналось Уильям Джеймс приехал в Париж и они
встретились. Она пришла к нему в гостиницу. Его чрезвычайно заинтересовало
все что она
-119-
делала и ее писательство и картины о которых она рассказывала. Они
пошли к ней их смотреть. Он посмотрел и ахнул, я же говорил вам, сказал он,
я всегда говорил что ум нужно держать открытым.
Года два всего тому назад произошла очень странная история. Гертруда
Стайн получила письмо от какого-то человека из Бостона. По грифу письма
было понятно что оно из юридической фирмы. В письме он писал что занимаясь в
Гарвардской библиотеке он недавно узнал о том что Гарвардской библиотеке
передана в дар библиотека Уильяма Джеймса. Среди этих книг был экземпляр
Трех жизней надписанный и присланный Джеймсу Гертрудой Стайн. Также на полях
книги были заметки сделанные по-видимому Уильямом Джеймсом при чтении книги.
Далее человек писал что эти заметки очень возможно очень заинтересуют
Гертруду Стайн и предлагал переписать их если она изъявит такое желание
поскольку книгу он присвоил, иначе говоря взял себе и теперь считает своей.
Мы очень растерялись и не знали как поступить. В конце концов ему написали
короткое письмо в котором говорилось что Гертруда Стайн хотела бы получить
заметки Уильяма Джеймса. В ответ пришла рукопись самого этого человека о
которой он просил Гертруду Стайн сообщить ему свое мнение. Совершенно не
зная как ей поступить Гертруда Стайн не поступила никак.
Сдав вступительные экзамены она стала жить в Балтиморе и учиться на
медицинском факультете. У нее была служанка по имени Лина и именно повесть
ее жизни Гертруда Стайн потом написала как первую повесть Трех жизней.
-120-
Первые два курса на медицинском факультете было неплохо. Были только
лабораторные и Гертруда Стайн незамедлительно занялась исследовательской
работой у Луэлина Баркера. Она начала изучение всех мозговых каналов,
начальный этап сравнительного изучения. Потом все это вошло в книгу Луэлина
Баркера. Она была в восторге от доктора Молла, профессора анатомии, своего
научного руководителя. Она всегда вспоминает его ответ студенту или
студентке когда он или она начинали в чем-то оправдываться. Он задумчиво
смотрел на них и говорил, да, вы совсем как наша кухарка. Причина всегда
найдется. Она никогда не подаст еду к столу горячей. Летом она конечно не
может потому что слишком жарко а зимой она конечно не может потому что
слишком холодно, да, причина всегда найдется. Доктор Молл верил в то что у
каждого вырабатывается своя техника. Еще он заметил, никто никого ничему не
учит, поначалу у каждого студента скальпель тупой а затем у каждого студента
скальпель острый и никто никого ничему не учил.
Эти первые два курса на медицинском факультете Гертруде Стайн вполне
понравились. Ей всегда нравилось иметь много знакомых и быть замешанной во
многих историях а занятия не то чтобы безумно увлекли но и не очень тяготили
ее и кроме того в Балтиморе была масса симпатичных родственников а это ей
тоже нравилось. Последние два курса на медицинском факультете она изнывала
от скуки, от явной и откровенной скуки. Студенческая жизнь была полна интриг
и борьбы,
-121-
это ей нравилось, но теория и практика медицины совершенно не
интересовали ее. Всем ее преподавателям было прекрасно известно что она
изнывает от скуки но научными занятиями на первых двух курсах она создала
себе репутацию и поэтому ей ставили все положенные зачеты а приближался
конец последнего курса. В то время она по очереди с другими студентами
принимала роды и вот тогда-то и обратила внимание на негритянок и на места
которые вспомнила потом в Меланкте Герберт, второй повести Трех жизней, той
повести вести с которой началась ее новаторская работа
Как она сама о себе говорит, она очень инертна и если уж она завелась
ей не остановиться пока она не заведется от чего-то еще.
С приближением выпускных экзаменов некоторые преподаватели начинали
сердиться. Светила вроде Хэлстеда, Ослера и другие наслышанные о ее
способностях к самостоятельной научной работе сводили экзамен по медицине к
чистой формальности и ставили ей проходной балл. Но другие были не столь
любезны. Гертруда Стайн всегда смеялась и это сбивало с толку. Они задавали
вопросы хотя, как она говорила друзьям, было глупо с их стороны спрашивать
ее когда было столько готовых и желающих отвечать. Тем не менее время от
времени они все-таки задавали вопросы и что же ей было делать, говорит она,
она не знала ответов а они не верили что она их не знает, они полагали что
она не отвечает потому что считает преподавателей недостойными ответа.
Положение было сложное, говорит она, не могла же она извиняться и
-122-
объяснять что она не может запомнить то что не может забыть даже самый
плохой студент-медик, настолько ей это скучно. Один преподаватель сказал что
хотя все светила согласны поставить ей проходной балл он намерен ее проучить
и он отказался поставить ей проходной балл так что диплом она получить не
смогла. На медицинском факультете были большие волнения. Ее очень близкая
подруга Марион Уокер умоляла ее, Гертруда, вспомни о деле женщин, а Гертруда
Стайн ответила, ты не знаешь что такое скука.
Проваливший ее преподаватель попросил ее к нему прийти. Она пришла. Он
сказал, мисс Стайн, вам нужно только позаниматься на летних курсах и осенью
вы конечно получите диплом. Что вы, сказала Гертруда Стайн, вы не
представляете себе как я вам благодарна. Я настолько инертна и настолько
неинициативна что очень возможно что если бы вы не помешали мне получить
диплом я бы занялась, ну, если не практической медициной то во всяком случае
патологической психологией, а вы не знаете как я не люблю патологическую
психологию и какую скуку на меня нагоняет всякая медицина. Преподаватель был
совершенно ошеломлен и медицинское образование Гертруды Стайн на этом
закончилось.
Она всегда говорит что она не любит ненормальное, оно слишком очевидно.
Она говорит, что нормальное намного проще сложнее и интереснее.
Всего несколько лет тому назад Марион Уокер, давняя приятельница
Гертруды Стайн приезжала
-123-
к ней в Билиньен где мы проводили лето. Они с Гертрудой Стайн не
виделись и не переписывались с тех самых давних пор но так же любили друг
друга и так же сильно расходились относительно дела женщин. Вообще,
объясняла Гертруда Стайн Марион Уокер, она ничего не имеет против дела
женщин равно как против любого другого дела только это как-то не ее дело.
В годы учебы в Радклифе и в университете Джона Хопкинса она часто
проводила лето в Европе. Последние несколько лет ее брат жил во Флоренции и
теперь когда со всякой медициной было покончено она приехала к нему во
Флоренцию а потом они поселились на зиму в Лондоне.
Они поселились в меблированных комнатах в Лондоне и поселились не без
удобств. Через Берензонов, Бертрана Рассела, Цангвилов у них появились
знакомые а еще был Уиллиард, Джозеф Флинт, который написал Бродяжничество с
бродягой и был знаток лондонских пивных, но Гертруде Стайн было довольно
скучно. Она стала проводить все свои дни в Британском музее читая
елизаветинцев. К ней вернулась давняя любовь к Шекспиру и елизаветинцам, и
ее захватало чтение елизаветинской прозы, особенно прозы Грина. У нее были
маленькие тетрадки исписанные фразами которые нравились ей так же как они ей
нравились в детстве. В остальное время она бродила по лондонским улицам и
находила их бесконечно мрачными и унылыми. Она никак не могла до конца
избавиться от этого впечатления от Лондона и ей никогда не хотелось туда
возвращаться но в девятьсот двенадцатом году она поехала к издателю
-124-
Джону Лейну, и тогда, ведя очень приятную жизнь и ходя в гости к очень
приятным и веселым людям она позабыла давнее впечатление и очень полюбила
Лондон.
Она всегда говорила что после первого раза Лондон казался сплошным
Диккенсом, а ее всегда пугал Диккенс. Как она говорит напугать ее может что
угодно и Лондон где был сплошной Диккенс конечно же ее напугал.
Были и какие-то радости, была проза Грина, и тогда же она открыла
романы Энтони Троллопа, для нее самого великого из викторианцев. Тогда она
собрала полное собрание его сочинений, а некоторые было трудно достать и
они были только в. издании Таухица и это об этом собрании говорит Роберт
Коутс когда он рассказывает как Гертруда Стайн давала читать книги молодым
писателям Еще она купила много мемуаров восемнадцатого века в том числе
записки Криви и Уолпола и это их она давала Бревигу Имсу когда он писал, как
она считает, прекрасное жизнеописание Чаттертона. Она читает книги но не
дрожит над ними, ей безразличны издание и оформление лишь бы печать была не
очень мелкая но даже печать волнует ее не слишком. И это в то же самое время
она перестала, как она говорит, бояться что дальше читать будет нечего, она
поняла, сказала она, что так или иначе она всегда что-нибудь да найдет.
Но от мрачности Лондона и женщин-алкоголичек и детей-алкоголиков и от
этой подавленности и одиночества на нее опять навалилась вся тоска ее
ранней юности и однажды она сказала что
-125-
провела в Америке. Тем временем ее брат тоже уехал из Лондона и поехал
в Париж и она потом приехала к нему. Она сразу же начала писать. Она
написала короткий роман.
Странно, что об этом коротком романе она совершенно не вспоминала
долгие годы. Она помнила как немного позднее она стала писать Три жизни но
это первое ее сочинение было совершенно забыто, она никогда мне о нем не
рассказывала, даже когда я только познакомилась с ней. Наверное она забыла о
нем почти сразу же. Этой весной буквально за два дня до нашего отъезда за
город она искала часть рукописи Становления американцев которую хотела
показать Бернару Фаю и наткнулась на две тщательно исписанные тетради этого
совершенно забытого первого романа Она очень смутилась и растерялась, на
самом деле не хотела его читать. В тот вечер в гостях сидел Луис Бромфильд и
она отдала ему рукопись и сказала, прочтите.
-126-
-127-
Часть пятая. 1907 -- 1914
И вот началась жизнь в Париже, а в Париж ведут все дороги и поэтому мы
все теперь там, и можно начать рассказывать что было когда уже была я.
Когда я только приехала в Париж то сначала я жила с приятельницей в
маленькой гостинице на бульваре Сен-Мишель, потом мы сняли небольшую вартиру
на рю Нотр Дам де Шам а потом приятельница уехала обратно в Калифорнию а я
переселилась к Гертруде Стайн на рю де Флерюс.
Прежде я бывала на рю де Флерюс каждую неделю в субботу вечером а
теперь я много бывала там и в другое время. Я помогала Гертруде Стайн читать
корректуру Трех жизней а потом стала перепечатывать Становление американцев.
Плохая маленькая французская портативная машинка оказалась слишком хлипкой
для печатания такой большой книги и мы купили большой внушительный Смит
Премьер который поначалу выглядел в ателье ужасно нелепо но мы все быстро к
нему привыкли и он был у нас до тех пор пока я не купила американскую
портативную машинку, короче говоря до послевоенных времен.
Первой женой гения с которой мне нужно было сидеть как я уже говорила
была Фернанда. Гении приходили и беседовали с Гертрудой Стайн а жены сидели
со мной. Какой бесконечной перспективой развертываются они сквозь годы. Я
нача-
-129-
ла с Фернанды а потом были мадам Матисс и Марсель Брак и Ева Пикассо и
Бриджит Гибб и Хэдли и Полина Хемингуэй и миссис Имс и эта самая миссис Форд
Мэддокс Форд и бесконечные другие, гении, почти гении и неудавшиеся гении, и
все с женами, я сидела и говорила с ними со всеми-всеми женами а потом,
потом я тоже сидела и говорила со всеми. Но начала я с Фернанды.
Я тоже поехала в Каса Риччи во Фьезоле вместе с Гертрудой Стайн и ее
братом. Как хорошо я помню то первое лето которое я жила с ними. Мы делали
прелестные вещи. Мы с Гертрудой Стайн брали во Фьезоле кабриолет, по-моему
он был единственный, и на этом старом кабриолете проезжали всю дорогу до
Сиены. Однажды Гертруда Стайн с приятельницей прошли ее пешком но я в те
жаркие итальянские дни предпочитала кабриолет. Это была прелестная прогулка.
В другой раз мы ездили в Рим и привезли очень красивую черную тарелку эпохи
Возрождения. Маддалена, старая итальянская кухарка, однажды утром поднялась
в спальню Гертруды Стайн чтобы принести горячей воды для ванной. У Гертруды
Стайн была икота. Неужели синьора не может перестать, обеспокоенно спросила
Маддалена. Нет, ответила Гертруда Стайн в перерыве между иканиями. Маддалена
грустно качая головой ушла. Через минуту раздался ужасный грохот. Маддалена
взлетела по лестнице, синьора, о синьора, сказала она, я так огорчилась
из-за того что у синьоры икота что разбила красивую черную тарелку которую
синьора так осторожно везла из Рима. Гертруда Стайн выругалась, у
-130-
нее есть удручающая привычка ругаться когда происходит что-нибудь
неожиданное и она всегда говорит что научилась этому в юности в Калифорнии и
тогда мне как убежденной калифорнийке уже сказать нечего. Она выругалась и
икота прекратилась. Лицо Маддалены расплылось в улыбке. Ох уж эта синьорина,
сказала она, она перестала икать. О нет, я не разбила черную тарелку я
просто устроила грохот и сказала что тарелка разбилась чтобы синьора
перестала икать.
Гертруда Стайн ужасно кротко относится к тому когда разбивают даже
самые милые ее сердцу предметы, это я, к сожалению, обычно разбиваю. Не она,
не прислуга и не собака, но прислуга ведь никогда до них не дотрагивается,
это я вытираю с них пыль и увы иногда нечаянно их разбиваю. Я всегда прошу
ее сначала дать мне их склеить у мастера а потом я говорю что разбилось, она
всегда отвечает что от склеенной вещи радости никакой, ну хорошо,
склеивайте, ее склеивают и убирают прочь. Она любит предметы которые бьются,
и дешевые и дорогие предметы, цыплят из бакалейной лавки и ярмарочных
голубей, один кстати разбился сегодня утром, на этот раз разбила не я, она
все их любит и все помнит но она понимает что рано или поздно они разобьются
и она говорит что как и книги всегда найдутся другие. Но для меня это не
утешение. Она говорит что любит те которые есть и любит новые за прелесть
новизны. То же она всегда говорит о молодых художниках, обо всем, а как
только все понимают что это хорошо прелесть новизны проходит. И, со вздохом
-131-
добавляет Пикассо, даже когда все понимают что это хорошо по-настоящему
оно нравится только тем кому нравилось тогда когда мало кто понимал что это
хорошо.
Тем летом мне все-таки пришлось совершить одну прогулку в зной.
Гертруда Стайн утверждала, что в Ассизи можно только идти пешком. У нее трое
любимых святых, святой Игнатий Лойола, святая Тереза Авильская и святой
Франциск. У меня же, увы, лишь один любимый святой, святой Антоний
Падуанский, ведь это он помогает находить потерянные вещи, а как однажды
сказал про меня старший брат Гертруды Стайн, будь я генералом, я никогда бы
не потеряла свою генеральскую честь а просто положила бы ее не на место.
Святой Антоний помогает мне ее находить. В каждой церкви где я бываю я
опускаю в его копилку изрядные деньги. Поначалу Гертруда Стайн возражала
против такой расточительности, но теперь она понимает что иначе нельзя и
если меня с нею нет она жертвует святому Антонию вместо меня.
Стоял очень жаркий итальянский день и мы вышли как обычно около
полудня, у Гертруды Стайн это было любимое время прогулок, оно ведь самое
жаркое, и к тому же святой Франциск вероятно чаще всего ходил этой дорогой в
такое время потому что он ходил этой дорогой во всякое время. Мы шли из
Перуджии по знойной долине. Я постепенно раздевалась, тогда на себя надевали
гораздо больше одежды чем теперь, я даже, что в те времена было совершенно
не принято, сняла чулки но все равно проронила слезу-другую прежде чем мы
дошли а мы дошли. Гертруда Стайн
-132-
очень любила Ассизи по двум причинам, из-за святого Франциска и красоты
его города и из-за того что по ассизиским холмам старушки водили не коз а
маленьких черных свинок. Маленькую черную свинку всегда украшала красная
ленточка. Гертруда Стайн всегда любила свинок и говорила что в старости
будет бродить по ассизским холмам с маленькой черной свинкой. Теперь она
бродит по энским холмам с собаками, большой белой и маленькой черной, так
что по-моему все сбылось.
Ей всегда нравились свиньи и поэтому Пикассо нарисовал для нее и ей
подарил несколько прелестных рисунков с изображением блудного сына в стаде
свиней. И один очаровательный этюд, где только свиньи. И в это же
приблизительно время он сделал для нее наиминиатюрнейшее украшение для
потолка на миниатюрной деревянной панели, это был hommage a Gertrude* с
изображением женщин и ангелов несущих плоды и трубящих в рога. Многие годы
оно крепилось к потолку и висело у нее над кроватью. Только после войны его
повесили на стену.
Но вернемся к началу моей жизни в Париже. Она строилась вокруг рю де
Флерюс 27 и субботних вечеров и была похожа на медленно поворачивающийся
калейдоскоп.
Чего только ни было в те далекие времена. Всякое было.
Когда, как я уже говорила, я стала постоянной
* Дар Гертруде (фр.)
-133-
гостьей на рю де Флерюс, Пикассо, Пабло и Фернанда, опять жили вместе.
Тем летом они опять ездили в Испанию и он приехал с испанскими пейзажами и
можно сказать что эти пейзажи, два по-прежнему на рю де Флерюс а третий в
Москве в собрании Щукина которое теперь государственное, были началом
кубизма. Влияния африканской скульптуры в них не было. Совершенно очевидно
было сильное влияние Сезанна, особенно влияние поздних акварелей Сезанна,
этого рассечения неба на объемы а не на кубы.
Но главное, в главном решение домов было испанским, а значит в главном
Пикассо. В этих картинах он впервые подчеркнул манеру строительства в
испанских деревнях, когда очертания домов не повторяют а прорезают и
взрезают пейзаж, сливаются с пейзажем прорезая пейзаж. Это был принцип
камуфляжа орудий и кораблей во время войны. В первый год войны Пикассо, Ева
с которой он тогда жил, Гертруда Стайн и я шли холодным зимним вечером по
бульвару Распай. В мире нет ничего холоднее бульвара Распай холодным зимним
вечером, у нас это называлось отступление от Москвы. Вдруг в конце бульвара
появилась большая пушка, первая раскрашенная, вернее закамуфлированная пушка
которую мы все видели. Пабло остановился, он был зачарован. C'est nous qui
avons fait ça, сказал он, это создали мы. И он был прав, это создал
он. К этому пришли от Сезанна через него. Его дальновидность была
оправданна.
Но вернемся к трем пейзажам. Когда их только повесили на стену никому
естественно не по-
-134-
понравилось. А они с Фернандой фотографировали некоторые деревни
которые он писал и он подарил фотографии Гертруде Стайн. Когда говорили что
несколько кубов изображенных на пейзажах ни на что кроме клубов не похожи,
Гертруда Стайн смеялась и отвечала, если бы вам не нравилась чрезмерная
реалистичность этих пейзажей, ваше недовольство было бы отчасти оправдано. И
она показывала фотографии, и картины в самом деле как она правильно
говорила, можно было бы назвать слишком фотографичной копией натуры. Много
лет спустя Элиот Пол в Транзишн по совету Гертруды Стайн напечатал
репродукцию картины Пикассо и фотографию деревни на одной странице и это
было необычайно интересно. Иначе говоря это действительно было начало
кубизма. И цвет был типично испанский, серебристо-бледно-желтый с едва
уловимым зеленоватым оттенком, такой позднее знакомый цвет кубистических
картин Пикассо а также его последователей.
Гертруда Стайн всегда говорит что кубизм это чисто испанское измышление
и кубистами могут быть только испанцы и что настоящий кубизм это только у
Пикассо и Хуана Гриса. Пикассо его создал а Хуан Грис наполнил его своей
ясностью и своей экзальтацией. Чтобы это понять нужно только прочесть Жизнь
и смерть Хуана Гриса Гертруды Стайн, написанную на смерть одного из двух ее
самых любимых друзей, Пикассо и Хуана Гриса, испанцев.
Она всегда говорит что испанец понятен американцу. Что это единственные
два западные на-
-135-
рода способные воплотить абстракцию. Что у американцев она выражается
отвлеченностью и литературы и техники, а в Испании ритуалом да таким
абстрактным что он связывается лишь с ритуалом.
Никогда не забуду как Пикассо с отвращением сказал об одних немцах
которые сказали что любят корриду, еще бы, сказал он сердито, они любят
кровь. Для испанца это не кровь, это ритуал.
Американцы, говорит Гертруда Стайн, похожи на испанцев, они абстрактны
и жестоки. Они не грубы они жестоки. У них нет такой тесной связи с землей
как у большинства европейцев. Их материализм это не материализм
существования, обладания, а материализм действия и абстракции. И поэтому
кубизм испанский.
Нас очень поразило когда мы с Гертрудой Стайн впервые поехали в Испанию
а это было приблизительно через год после начала кубизма, насколько
естественно кубизм создается в Испании. В барселонских лавках вместо
открыток продавались маленькие квадратные рамки и вовнутрь, совершенно по
принципу кубистических картин, были вставлены сигара, настоящая, трубка,
маленький носовой платок или еще какая-нибудь вещица, а наружу они
извлекались с помощью вырезанного из бумаги изображения другого предмета.
Это примета современности которая в Испании существует уже много веков.
В своих ранних кубистических картинах Пикассо как и Хуан Грис
пользовался печатными литерами чтобы добиться соотнесенности живописной
поверхности с чем-нибудь жестким, и этим жестким была печатная литера. Со
временем они
-136-
стали писать буквы от руки а не пользоваться печатными литерами и все
потерялось, только Хуан Грис умел написать печатную букву с такой
напряженностью что она все равно создавала жесткий контраст. И вот так
постепенно рождался кубизм но он родился.
Это в те времена дружба между Браком и Пикассо сделалась более близкой.
Это в те времена Хуан Грис, неотесанный и весьма экспансивный юноша, приехал
из Мадрида в Париж и стал называть Пикассо cher maitre к большому
раздражению Пикассо. Это поэтому Пикассо говорил Браку cher maitre, пуская
шутку дальше, а к сожалению некоторые глупые люди поняли эту шутку в том
смысле что Пикассо чтил в Браке учителя.
Но я опять слишком забегаю вперед по сравнению с теми давними
парижскими временами когда я только познакомилась с Фернандой и Пабло.
Так значит в те времена были написаны только те три пейзажа и он
начинал писать головы как бы высеченные из отдельных плоскостей, а еще
вытянутые буханки хлеба.
В то время Матисс, школа все продолжала работать, действительно начинал
становиться весьма известным, настолько что, к всеобщему большому волнению,
Бернхайм-младший, очень все-таки буржуазная фирма, предложил ему контракт на
покупку всех его работ по очень приличной цене. Это был волнующий момент.
Это происходило благодаря влиянию человека но имени Фенеон. Il est tre
fin *, сказал Матисс,
* Он очень тонкий человек (фр.).
-137-
очень потрясенный Фенеоном. Фенеон был журналист, французский журналист
который придумывал так называемый feuilleton en deux lignes, иначе говоря
стал первым забивать новости дня в две строки. Он был похож на
офранцуженного дядюшку Сэма с карикатуры и изображался стоящим на фоне
занавеса на одной из картин цирковой серии Тулуз-Лотрека.
И теперь, когда как и зачем я не знаю, Бернхаймы взяли к себе Фенеона,
они собирались связать свое имя с художниками нового поколения.
Что-то произошло, во всяком случае контракт действовал недолго, но
имущественное положение Матисса тем не менее изменилось. Теперь оно было
прочным. Он купил дом и участок в Кламаре и начал туда перебираться. Можно я
опишу дом каким я его увидела.
Этот дом в Кламаре был очень удобный, ванная, которой вследствие
длительного общения с американцами семейство Матиссов придавало очень
большое значение хотя нужно отметить, что они и до и после всегда отличались
скрупулезной аккуратностью и чистоплотностью, разумеется была на первом
этаже рядом со столовой. Но так было неплохо и было и остается принято у
французов, во французских домах. Тем что ванную устраивали на первом этаже
ей придавали большую интимность. Недавно мы осмотрели новый дом который
строит Брак и ванная снова была внизу, на этот раз под гостиной. Когда мы
спросили, а все-таки почему, они ответили потому что так она ближе к печи а
значит будет теплее.
-138-
Участок в Кламаре был большой а сад, как Матисс его называл то ли с
гордостью то ли с досадой, был un petit Luxembourg*. Еще там была
стеклянная цветочная оранжерея. Потом они посадили в ней бегонии которые
делались все меньше и меньше. Дальше была сирень а еще дальше разборный
павильон. Мадам Матисс с наивной беспечностью каждый день ездила на нее
смотреть и рвать цветы а такси просила подождать. В те времена только
миллионеры просили такси подождать и то очень редко.
Они переехали и очень удобно устроились и скоро огромная мастерская
заполнилась огромными статуями и огромными картинами. Это был тот самый
период Матисса. Так же скоро Кламар показался Матиссу настолько прекрасным
что он не мог туда возвращаться как домой а ведь он уезжал в Париж каждый
день на свой час наброска с обнаженной натуры, что он от начала вещей делал
каждый день всю жизнь после полудня. Школы у него больше не было,
правительство забрало старый монастырь под лицей и школа закончилась.
У Матиссов начинались тогда времена большого процветания. Они съездили
в Алжир и съездили в Танжер а их преданные немецкие ученики подарили им
рейнские вина и очень красивую черную собаку-ищейку, первую собаку этой
породы которую мы все видели.
А потом у Матисса была грандиозная выставка картин в Берлине. Как я
хорошо помню один ве-
* Маленький Люксембургский сад (фр.).
-139-
сенний день, это был чудный день и мы должны были обедать у Маттисов в
Кламаре. Когда мы приехали они все стояли вокруг огромного ящика со снятой
крышкой. Мы тоже подошли посмотреть и увидели в ящике небывалых размеров
лавровый венок перевитый красивой красной лентой. Матисс показал Гертруде
Стайн карточку которую он с него снял. Там было написано, Анри Матиссу,
триумфатору Берлинского сражения, и стояла подпись, Томас Уиттемор. Томас
Уиттемор был бостонский археолог и профессор Туфтс Колледжа, большой
поклонник Матисса, и это было его подношение. Но я же пока не умер, сказал
все еще скорее удрученный Матисс. Мадам Матисс, оправившись от потрясения,
сказала, а смотри, Анри, и наклонившись оторвала листок и попробовала его,
это же настоящий лавр, подумай как он хорош будет в супе. А лента, сказала
она просияв еще больше, это прекрасная лента для волос и ее будет долго
носить Марго.
Матиссы жили в Кламаре приблизительно до войны. Все это время они все
реже и реже виделись с Гертрудой Стайн. Потом когда началась война они
приходили часто. Им было одиноко и тревожно, семья Матисса в Сен-Кантене, на
севере, была под немцами а его брат был заложником. Это мадам Матисс научила
меня вязать шерстяные перчатки. Она вязала их удивительно аккуратно и быстро
и я тоже так научилась. Потом Матисс переехал в Ниццу и так или иначе хотя
Матиссы и Гертруда Стайн продолжают быть в прекрасных дружеских отношениях
друг с другом, они совсем не видятся друг с другом.
-140-
Среди посетителей субботних вечеров в те давние времена было много
венгров, изрядное число немцев, немало людей смешанной национальности, очень
редко попадались американцы и почти не попадалось англичан. Англичане
начались позже, а с ними появились аристократы всех стран и даже царственные
особы.
Из немцев в те давние времена приходил в том числе Паскин. Он был в то
время стройный и ослепительно красивый, он уже приобрел широкую известность
как рисовальщик аккуратных маленьких карикатур в Симплициссимусе, самой
смешной немецкой юмористической газете. Другие немцы рассказывали о нем
странные вещи. Что он воспитывался в доме терпимости что он сын
неизвестного, возможно королевского происхождения, и тому подобное.
Они с Гертрудой Стайн не виделись с тех самых давних времен но
несколько лет тому назад они встретились на вернисаже молодого голландского
художника Кристиана Тонни который когда-то был учеником Паскина и которым
теперь интересовалась Гертруда Стайн. Они обрадовались встрече и долго
проговорили друг с другом.
Паскин был гораздо занятней чем другие немцы хотя так не вполне можно
говорить потому что был Уде.
Уде точно был благородных кровей, он был не белокурый немец, он был
стройный довольно высокий с темными волосами, возвышенным лбом и
великолепным быстрым умом. Когда он только приехал в Париж он обошел все
антикварные и
-141-
комиссионные магазины высматривая чем бы ему разжиться. Он разжился
несильно, разжился одним якобы Энгром, разжился несколькими очень ранними
картинами Пикассо но может быть он разжился и чем-то еще. Во всяком случае
когда началась война стали думать что он был супершпион и состоял в
германском штабе.
По слухам его видели около французского военного министерства после
объявления войны, у них с приятелем совершенно точно была дача очень близко
от того места где потом проходил Гинденбургский фронт. Но во всяком случае
он был очень милый и очень занятный. Это он первый стал продавать картины
таможенника Руссо. Он держал что-то вроде закрытого художественного
магазина. Это туда к нему приходили Брак и Пикассо в своей самой новой и
грубой одежде и в своих лучших традициях в духе цирка Медрано наперебой
представляли ему друг друга и просили друг друга представить ему друг друга
Уде часто приходил на субботние вечера в сопровождении очень высоких
красивых светловолосых молодых людей которые щелкали каблуками и кланялись
а потом весь вечер чинно стояли навытяжку. Они создавали очень эффектный фон
остальному собранию. Я помню вечер когда сын великого ученого Бреаля и его
очень занятная умная жена привели испанского гитариста который хотел прийти
сыграть. Фоном были Уде и его телохранитель и получился очень веселый вечер,
гитарист играл, и был Маноло. Это был единственный раз когда я видела
скульптора Маноло, к тому
-142-
времени легендарную личность в Париже. Пикассо так разошелся что
станцевал не слишком приличный южноиспанский танец, брат Гертруды Стайн
исполнил танец умирающего лебедя Айседоры, было очень весело, Фернанда и
Пикассо заспорили о Фредерике Ловком Кролике и апачах. Фернанда утверждала
что апачи лучше художников и указательный палец у нее поднимался вверх.
Пикассо сказал, да, конечно, у апачей есть университеты а у художников нет.
Фернанда рассердилась и встряхнула его за плечи и сказала, по-твоему это
остроумно а это только глупо. Он с удрученным видом показал что от встряски
у него оторвалась пуговица а она очень сердито сказала, а ты, твоя
исключительность состоит только в том что ты вундеркинд. Отношения в те
времена у них были далеко не самые лучшие, это как раз приблизительно тогда
они переезжали с рю Равиньян в квартиру на бульваре Клиши, где они заведут
прислугу и разбогатеют.
Но вернемся к Уде а сперва к Маноло. Маноло был пожалуй самым давним
другом Пикассо. Он был странный испанец. Он, так гласила молва, был братом
одного из искуснейших воров-карманников Мадрида. Сам Маноло был кроткий и
чудный. Он был единственный человек в Париже с которым Пикассо говорил
по-испански. У всех остальных испанцев были французские жены или любовницы и
они так привыкали говорить по-французски что говорили по-французски между
собой. Это всегда казалось мне очень странным. Но Пикассо и Маноло всегда
говорили между собой по-испански.
-143-
О Маноло рассказывали много историй, он всегда любил святых и всегда
жил под их покровительством. Рассказывали как едва приехав в Париж он зашел
в первую церковь которую он увидел и увидел как женщина поднесла кому-то
стул и получила деньги. Ну и Маноло стал делать так же, он часто заходил в
церкви, всегда подносил стулья и всегда получал деньги пока в один
прекрасный день его не поймала с поличным та женщина чей промысел и чьи
стулья это были и был скандал.
Однажды он сидел совсем на мели и предложил друзьям разыграть в лотерею
какую-нибудь его статую, все согласились, а когда все потом встретились то
оказалось что у всех один и тот же номер. Когда его стали укорять он
объяснил что сделал это потому что понимал как огорчились бы друзья если бы
у всех них не был один и тот же номер. Говорили что он уехал из Испании
когда служил в армии, точнее он служил в кавалерии, перешел границу, продал
лошадь и снаряжение и таким образом выручил деньги на то чтобы приехать в
Париж и стать скульптором. Однажды его оставили на несколько дней пожить в
доме у человека который был знаком с Гогеном. Когда хозяин дома вернулся
все его памятные вещи Гогена и все его наброски Гогена исчезли. Маноло
продал их Воллару и Воллару пришлось отдать их обратно. Никто не возражал.
Маноло был такой трогательный безумный восторженно набожный испанский нищий
и все его любили. Мореас, греческий поэт, он был личностью очень известной в
Париже в те времена, очень его любил и обычно брал его с собой за компанию
когда у него
-144-
были какие-нибудь дела. Маноло всегда шел в надежде поесть но обычно
ему приходилось ждать пока поест Мореас. Маноло всегда был полон терпения и
надежды хотя Мореас тогда не меньше чем позднее Аполлинер был известен тем
что платил он редко или скорее никогда не платил.
Маноло делал статуи для монмартрских кабачков в обмен на еду и все в
том духе пока о нем не услышал Альфред Штиглиц который сделал ему выставку в
Нью-Йорке и кое-что продал и тогда Маноло возвратился на французскую
границу, в Сере, и там, превращая день в ночь, он с тех пор и живет, живет с
женой каталонкой.
Так вот Уде. Уде на одном из субботних вечеров представил Гертруде
Стайн свою невесту. Нравстенности Уде был отнюдь не примерной и все мы очень
удивились потому что невеста производила впечатление очень богатой и очень
обыкновенной молодой женщины. Но оказалось, что это был брак по расчету. Уде
желал остепениться а она хотела войти во владение наследством и могла это
сделать только после замужества Вскоре она вышла замуж за Уде и вскоре они
развелись. Потом она вышла замуж за художника Делоне который как раз тогда
начинал выходить на передний план. Он был основоположником первого из
многочисленных опошлений идеи кубизма, этого писания домов под наклоном,
катастрофической как ее называли школы.
Делоне был высокий светловолосый француз. У него была живая маленькая
мать. Она приходи-
ела на рю де Флерюс в обществе старых виконтов которые выглядели в
точности так как по юношеским представлениям должен выглядеть старый
французский маркиз. Виконты всегда оставляли визитные карточки а потом
благодарили церемонной запиской и никогда ничем не выдавали той неловкости
которую они вероятно испытывали. Сам Делоне был занятный. Он был довольно
способный и непомерно честолюбивый. Он всегда спрашивал сколько лет было
Пикассо когда он написал ту или иную картину. Когда ему отвечали он всегда
говорил, ну мне еще не столько. А когда будет столько я уже успею сделать не
меньше.
На самом деле он и правда развивался очень стремительно. Он очень много
бывал на рю де Флерюс. Гертруде Стайн он доставлял большое удовольствие. Он
был смешной и он написал одну совсем неплохую картину, трех граций на фоне
Парижа, огромную картину в которой он соединил все чужие идеи и добавил
некоторую французскую ясность и собственную необычность. В ней было довольно
удивительное настроение и она имела большой успех. После этого его картины
сделались совершенно никакие, они стали большие и пустые или маленькие и
пустые. Помню как одну такую маленькую картину он принес нам со словами,
смотрите, несу вам маленькую картину, просто сокровище. Маленькое, сказала
Гертруда Стайн, но сокровище.
Это Делоне женился на бывшей жене Уде и они поставили дом на широкую
ногу. Они стали покровительствовать Гийому Аполлинеру и это он научил их
готовить и жить. Гийом был потрясающий.
-145-
Никто кроме Гийома, здесь в нем говорил итальянец, еще только Стелла
нью-йоркский художник тоже так мог во времена своей далекой парижской
молодости, не умел так высмеивать хозяев, высмеивать их гостей, высмеивать
их еду и подвигать их к все большим и большим усилиям.
Гийому впервые представилась возможность попутешествовать, он поехал
вместе с Делоне в Германию и прекрасно проводил время.
Уде обожал рассказывать как однажды к нему пришла бывшая жена и,
распространяясь на тему будущей карьеры Делоне, стала объяснять что он
должен оставить Пикассо и Брака, прошлое, и посвятить себя делу Делоне,
будущему. Пикассо и Браку, напоминаю, в то время еще не было тридцати. Уде
всем об этом рассказывал со множеством остроумных прибавлений и всегда
прибавляя, рассказываю вам все это sans dicretion, иначе говоря передайте
дальше.
В те времена приходил еще один немец но скучный. Он, насколько я
понимаю, теперь очень большой человек в Германии и он во все времена, даже
во время войны, был необычайно преданным другом Матисса. Он был оплотом
школы Матисса. Матисс не всегда или прямо скажем не часто бывал с ним очень
любезен. Все женщины любили его, считалось так. Он был коренастый Дон Жуан.
Я помню одну высокую скандинавку которая его любила и во время субботних
вечеров никогда не заходила в дом а стояла во дворе и когда кто-нибудь из
входивших или выходивших открывал дверь,
-147-
в темноте двора виднелась ее улыбка похожая на улыбку Чеширского кота.
Его всегда смущала Гертруда Стайн. Она делала и покупала такие странные
вещи. Он не решался высказывать критические замечания ей а меня всегда
спрашивал, а вы, мадемуазель, а вы, и показывал на презренный предмет, вы
считаете что это красиво.
Однажды когда мы были в Испании, на самом деле когда мы впервые поехали
в Испанию, Гертруда Стайн настояла на том чтобы купить в Куэнке огромную
новехонькую черепаху из рейнскою камня. У нее были очень красивые старинные
украшения но теперь она с большим удовольствием носила эту черепаху как
пряжку. Пурман был на сей раз ошарашен. Он отвел меня в угол. Это украшение,
спросил он, которое на мисс Стайн, камни там настоящие.
Заговорив об Испании я еще вспомнила как однажды мы сидели в ресторане
заполненном посетителями. Вдруг в конце зала поднялась высокая фигура и
какой-то человек церемонно поклонился Гертруде Стайн а она не менее
церемонно ответила. Это был случайный венгр с субботних вечеров, совершенно
точно.
Был еще один немец который должна признать нам обеим нравился. Это было
намного позже, году в девятьсот двенадцатом. Он тоже был высокий
темноволосый немец. Он говорил по-английски, он был другом Марсдена Хартли
который нам очень нравился, и нам нравился его немецкий друг, не могу
сказать чтобы это было не так.
Он называл себя богатым сыном не очень богатого отца. Иными словами он
получал большое
-148-
содержание от довольно бедного отца, университетского профессора.
Реннебек был прелестный и его всегда приглашали на ужин. Однажды он был на
ужине в тот вечер когда был Берензон знаменитый исследователь итальянского
искусства. Реннебек принес фотографии картин Руссо. Он оставил их в ателье а
мы все сидели в столовой. Все начали говорить о Руссо. Берензон недоумевал,
Руссо, Руссо, сказал он, Руссо был почтенный художник но почему вдруг такое
волнение. А, сказал он вздыхая, моды меняются, я понимаю, но я бы никогда не
подумал что Руссо войдет в моду у молодежи. Берензон грешил высокомерием и
ему дали продолжить. В конце концов Реннебек мягко сказал, но наверное,
господин Берензон, вы никогда не слышали о великом Руссо, таможеннике Руссо.
Нет, признался Берензон, он не слышал, а потом когда увидел фотографии
вообще перестал что-либо понимать и сильно разнервничался. Мейбл Додж
которая там была сказала, Берензон, но вы не должны забывать что искусство
неизбежно. Это, ответил Берензон приходя в себя, вы понимаете, вы ведь и
сами femme fatale*.
Мы очень любили Реннебека и к тому же когда он пришел впервые он
процитировал Гертруде Стайн что-то из ее последних сочинений. Она давала
читать одну рукопись Марсдену Хартли. Ей впервые ее цитировали и естественно
ей это понравилось. Еще он перевел на немецкий некото-
* Роковая женщина (фр.)
-149-
рые потреты которые она в то время писала и таким образом впервые
принес ей международную славу. Однако это не совсем так потому что Роше,
верный Роше уже познакомил каких-то молодых немцев с книгой Три жизни и они
уже были под ее обаянием. Все же Реннебек был прелестный и все мы его очень
любили.
Реннебек был скульптор, он ваял небольшие портреты в рост и ваял очень
хорошо, он был влюблен в молодую американку-музыкантшу. Он любил Францию и
все французское и он очень симпатизировал нам. На лето мы все как обычно
расстались. Он говорил что у него впереди очень интересное лето. Ему
заказали портрет графини и двух ее сыновей, маленьких графов и он должен был
провести лето за работой над этим портретом в роскошном имении графини на
берегу Балтийского моря.
Когда мы все вернулись той зимой Реннебек изменился. Во-первых он
вернулся с множеством фотографий кораблей германского флота и настойчиво
предлагал нам их посмотреть. Нам было неинтересно. Гертруда Стайн сказала,
конечно,. Реннебек у вас есть флот, конечно у нас американцев есть флот, у
всех есть флот но для всех кто сам не во флоте один большой броненосец очень
похож на другой, бросьте эти глупости. Впрочем он изменился. Он хорошо
провел лето. У него были его фотографии со всеми графами и одна с германским
кронпринцем, большим другом графини. Тянулась зима, это была зима девятьсот
тринадцатого -- девятьсот четырнадцатого года. Происходило все что
происходило обычно и как обычно мы дали
-150-
несколько званых ужинов. По какому поводу был тот ужин я не помню, но
мы решили что Реннебек придется на нем очень кстати. Мы пригласили его. Он
ответил запиской что ему нужно на два дня в Мюнхен но он поедет ночным
поездом и к ужину возвратится. Он возвратился и был так же очарователен как
всегда.
Вскоре он отправился путешествовать на север, смотреть города где
соборы. Когда он вернулся он пришел к нам с пачкой фотографий всех этих
северных городов снятых сверху. Что это, спросила Гертруда Стайн. Ну,
ответил он, я думал вам будет интересно, это я снимал все города где соборы.
Я снимал с самой вершины шпилей и я думал вам будет интересно потому что
смотрите, сказал он, они выглядят в точности как картины последователей
Делоне, школы катаклизма, как вы говорите, сказал он оборачиваясь ко мне. Мы
поблагодарили его и о них забыли. Я нашла их позднее во время войны и со
злости порвала.
Потом все мы заговорили о наших летних планах. Гертруда Стайн
собиралась в июле в Лондон чтобы встретиться с Джоном Лейном и подписать
договор на Три жизни. Реннебек сказал, почему бы вам вместо Англии или
скорее до или сразу после не поехать в Германию, сказал он. Потому что,
ответила Гертруда Стайн, как вы знаете, я не люблю немцев. Да, знаю, сказал
Реннебек, я знаю, но меня вы же любите и вам будет там хорошо. Им будет так
интересно и это будет для них так важно, приезжайте, сказал он. Нет,
ответила Гертруда Стайн, вас я люблю а немцев нет.
-151-
В июле мы поехали в Англию и когда мы туда приехали Гертруда Стайн
получила письмо от Реннебека в котором говорилось, что он по-прежнему ужасно
хочет чтобы мы приехали в Германию но раз мы все не хотим то не лучше ли нам
провести лето в Англии или может быть в Испании а не возвращаться как мы
собирались в Париж. Это разумеется был конец. Рассказываю все как было.
Когда я только приехала в Париж на субботних вечерах попадались очень
редкие вкрапления американцев, эти вкрапления постепенно делались все более
и более частыми но прежде чем рассказывать об американцах я должна
рассказать о банкете в честь Руссо. .
В начале моей жизни в Париже, как я уже говорила, мы с приятельницей
жили в небольшой квартире на рю Нотр Дам де Шам. Я больше не брала у
Фернанды уроки французского потому что они с Пикассо опять жили вместе но
она была нередкой гостьей. Уже наступила осень, очень хорошо это помню
потому что я уже купила свою первую зимнюю парижскую шляпу. Это была очень
красивая шляпа из черного бархата, большая шляпа с блестящим желтым фантази.
Даже у Фернанды она заслужила одобрение.
Однажды Фернанда обедала у нас и сказала что будет банкет в честь Руссо
а дает его она. Она подсчитала количество приглашенных. Мы были в их числе.
Кто такой Руссо я не знала но на самом деле это было совершенно не важно
потому что это был банкет и все шли и нас приглашали.
В следующую субботу все на рю де Флерюс
-152-
говорили о банкете в честь Руссо и тогда я узнала что это тот самый
художник картину которого я видела на той самой первой выставке независимых.
Оказалось что Пикассо недавно нашел на Монмартре большой женский портрет
Руссо, купил его и торжество устраивалось в честь покупки и в честь
художника. Ожидалось что-то совершенно потрясающее.
Фернанда подробно рассказывала о меню. Должен был быть riz а 1а
Valancienne*. Фернанда научилась его готовить когда в последний раз ездила в
Испанию, а потом она заказала, не помню что именно она заказала но она
заказала очень много еды у Феликса Потена, гастрономической фирмы которая
делала готовые блюда. Все были взволнованы. Это насколько я помню, Гийом
Аполлинер очень хорошо знал Руссо и взял с него обещание прийти и должен был
привести его а все должны были сочинять стихи и песни и должно было быть
очень rigolo**, любимое монмартрское словечко означающее шутливые забавы. Мы
все должны были встретиться в кафе внизу рю Равиньян, выпить по аперитиву а
потом подняться наверх в мастерскую Пикассо где нас будет ждать ужин. Я
надела новую шляпу, мы все пошли на Монмартр и мы все встретились в кафе.
Когда мы с Гертрудой Стайн зашли в кафе казалось что там уже очень
много народу и среди собравшихся была высокая худая молодая женщи-
* Рис по-валенсийски (фр.)
** Весело (фр.)
-153-
на которая раскачивалась взад и вперед вытянув перед собой худые
длинные руки. Я не понимала что она делает, это была явно не гимнастика, это
вызвало недоумение, но она была совершенно обворожительна. Что происходит,
шепотом спросила я у Гертруды Стайн. А, это Мари Лорансен, боюсь, она
переусердствовала с аперитивами. Это та самая престарелая особа которая по
рассказам Фернанды кричит звериными голосами и выводит из себя Пабло. Пусть
она выводит из себя Пабло но она очень молодая особа и она слишком много
выпила, сказала Гертруда Стайн заходя в кафе. В этот самый момент у двери
послышался очень сильный шум и появилась очень большая очень взволнованная и
очень рассерженная Фернанда. Феликс Потен, сказала она, не прислал обед. Все
были потрясены этим известием, но я со своими американскими привычками
сказала Фернанде, пошли скорее, давайте позвоним. В Париже в те времена не
звонили а в продуктовый магазин никогда. Но Фернанда согласилась и мы пошли.
Куда бы мы ни ходили телефона или не было или он не работал, в конце концов
мы нашли такой который работал, но Феликс Потен или уже закрылся или как раз
закрывался и был глух к нашим призывам. Фернанда была совершенно убита но в
конце концов я уговорила ее сказать что именно мы должны были получить от
Потена и в нескольких лавочках на Монмартре мы нашли нечто подобное. В конце
концов Фернанда заявила что она приготовила очень много риса по-валенсийски
и вместо всего будет он и он был.
-154-
Когда мы вернулись в кафе почти все кто там были раньше уже ушли и
пришли новые люди, Фернанда пригласила всех. Поднимаясь с большим трудом по
холму мы вскоре увидели впереди всю компанию. Посередине шла Мари Лорансен
поддерживаемая с одной стороны Гертрудой Стайн а с другой братом Гертруды
Стайн и она все время падала из одних рук в другие, у нее был все тот же
высокий и мелодичный голос и все те же худые изящные и длинные руки. Гийома
конечно не было, он должен был привести самого Руссо когда все уже сядут.
Фернанда а следом за нею я опередили эту медленно двигавшуюся процессию
и вот мы пришли в ателье. Оно произвело весьма сильное впечатление. Они
взяли козлы, плотницкие козлы, и положили на них доски а вокруг досок стояли
скамейки. Во главе стола было новое приобретение, тот самый Руссо
задрапированный флагами и гирляндами и обрамленный с обеих сторон двумя
большими статуями, какими не помню. Это выглядело очень великолепно и очень
празднично. Рис а 1а Valancienne по-видимому варился внизу в мастерской
Макса Жакоба. У Макса были неважные отношения с Пикассо и его не было, но
мастерскую использовали под рис и мужской гардероб. Дамы раздевались в
мастерской с окнами на улицу которая была Ван-Донгена в его шпинатные
времена а теперь принадлежала французу по имени Вайан. Это была та самая
мастерская которая потом была мастерской Хуана Гриса.
Я успела только снять шляпу и восхититься
-155-
обстановкой слушая как Фернанда последними словами поносит Мари
Лорансен, а уже явилась вся компания. Фернанда, большая и величественная,
преградила им путь, она не позволит чтобы ее званый ужин испортила Мари
Лорансен. Это был серьезный ужин, серьезный банкет в честь Руссо и ни она ни
Пабло не потерпят такого поведения. Все это время Пабло конечно скрывался
сзади. Гертруда Стайн выразила несогласие, она сказала наполовину
по-английски наполовину по-франузски что провалиться ей на этом месте если
она так надрывалась и тащила на себе Мари Лорансен по этому проклятому холму
а окажется что все зря. Нет в самом деле и кроме того она напомнила Фернанде
что Гийом и Руссо могут прийти в любую минуту а к моменту их появления все
должны благонравно сидеть за столом. В это время Пабло уже пробрался вперед,
и он вмешался и сказал, да, да, и Фернанда сдалась. Она всегда побаивалась
Гийома Аполлинера, его серьезности и ею ума, и все они вошли. Все сели.
Все сели и все начали есть рис и другие блюда вернее начали как только
появились Гийом Аполлинер и Руссо а они не замедлили появиться и были
встречены шумным восторгом. Как хорошо я помню их появление, невысокого
маленького бесцветного француза с маленькой бородкой как у Руссо каких
видишь сколько угодно и где угодно. Темноволосого с красивыми яркими чертами
и прекрасным цветом лица Гийома Аполлинера. Всех представили и все опять
сели. Гийом пробрался на свободное место рядом с Мари Лорансен. При виде
-156-
Гийома Мари, которая более или менее успокоилась сидя ряом с Гертрудой
Стайн, снова начала метаться и вскрикивать. Гийом вывел ее за дверь и увел
вниз и после долгого отсутствия они вернулись, Мари в легких синяках но
трезвая. К тому времени все всЕ съели и начались стихи. Да, еще раньше
забрел этот самый Фредерик Ловкий Кролик и Университет апачей со своим
постоянным спутником осликом, выпил и убрел прочь. Потом немного погодя
прослышав об ужине зашли итальянские уличные певцы. Фернанда в конце стола
встала и покраснела и подняв указательный палец сказала что это не такой
ужин, и их быстро выставили.
Кто там был. Были мы и Сальмон, Андре Сальмон, тогда подающий надежды
молодой поэт и журналист, Пишо и Жермена Пишо, Брак и наверное Марсель Брак,
но этого я не помню, знаю что о ней тогда говорили, Рейнали, Ахеро этот
поддельный Эль Греко с женой и еще несколько пар которых я не знала и не
помню, и Вайан, очень приветливый обыкновенный француз который занимал
мастерскую с окнами на улицу.
Началось чествование. Гийом Аполлинер встал и произнес торжественную
хвалебную речь, совершенно не помню что он сказал, но заканчивалась она
стихотворением его сочинения которое он наполовину пропел и рефрен la
peinture de ce Rousseau*, все подхватывали хором. Потом встал кто-то еще,
кажется Рейналь но точно не помню
* Живопись этого Руссо (фр.)
-157-
и начались тосты, а потом совершенно неожиданно Андре Сальмон который
сидел рядом с моей приятельницей и чинно беседовал о литературе и
путешествиях, вскочил на более чем шаткий стол и разразился
импровизированной хвалебной речью и стихами. В конце он схватил большой
бокал, выпил его до дна и затем, совершенно опьянев, впал в невменяемость и
начал буянить. Мужчины все бросились его держать, статуи зашатались, Брак
здоровый верзила бросился держать статуи и стоял держа по статуе в каждой
руке в то время как брат Гертруды Стайн другой здоровый верзила прикрывал
маленького Руссо и его скрипку. Остальные во главе с Пикассо потому что
Пикассо хотя и маленький но очень сильный, затащили Сальмона в мастерскую с
окнами на улицу и заперли. Все вернулись и сели.
Дальше вечер проходил спокойно. Мари Лорансен спела высоким голосом
прелестные старинные нормандские песни. Жена Ахеро спела прелестные
старинные лимузенские песни, Пишо станцевал потрясающий испанский
религиозный танец в завершение изобразив на полу распятого Христа. Гийом
Аполлинер торжественно обратился к нам с приятельницей и попросил спеть
народные песни американских индейцев. Ни она ни я соответствовать не могли к
большому сожалению Гийома и всей компании. Счастливый и кроткий Руссо играл
на скрипке и рассказывал о пьесах которые он написал и о своих мексиканских
воспоминаниях. Все было очень спокойно и часа в три утра мы пошли в ту
мастерскую куда положили Сальмона и где мы оставили пальто и
-158-
шляпы чтобы одеться и пойти домой. Сальмон лежал на кушетке и спокойно
спал а вокруг него, полуизжеванные, валялись коробка спичек, petit bleu* и
мое желтое фантази. Вообразите мои чувства даже в три утра. Однако
проснувшись Сальмон был очень мил и очень учтив и мы все вместе вышли. Вдруг
с диким воплем Сальмон рванулся вниз по холму.
Гертруда Стайн с братом и я с приятельницей, все в одном кабриолете,
отвезли Руссо домой.
Приблизительно месяц спустя я спешила домой ранним темным зимним
парижским вечером и вдруг почувствовала что за мною кто-то идет. Я спешила
все больше и больше а шаги все приближались и я услышала, мадемуазель,
мадемуазель. Я обернулась. Это был Руссо. О, мадемуазель, сказал он, нельзя
ходить одной когда темно, позвольте я вас провожу. И проводил.
Вскоре после этого в Париж приехал Канвейлер. Канвейлер был немец
женатый на француженке и они много лет жили в Англии. В Англии Канвейлер
подвизался в коммерции и копил деньги чтобы осуществить мечту когда-нибудь
иметь художественную лавку в Париже. Время это пришло и он открыл небольшую
аккуратную галерею на рю Виньон. Он немного осмотрелся а потом решил целиком
связать свою судьбу с группой кубистов. Сначала были трудности, вечно
подозрительный Пикассо осторожничал. С Канвейлером торговалась Фернанда но в
конце концов они все убе-
* телеграмма (фр.)
-159-
дились в искренней его заинтересованности и вере и в том что он может и
хочет найти покупателей их работам. Они все заключили с ним контракты и до
войны он делал для всех все. Послеполуденные часы когда члены группы
поочередно являлись к нему в магазин были для него поистине часами с Вазари.
Он верил в них и в их будущее величие. Только за год до войны он
присовокупил к ним Хуана Гриса. Лишь за два месяца до начала войны Гертруда
Стайн увидела у Канвейлера первые картины Хуана Гриса и три купила.
Пикассо всегда говорил что он постоянно внушал Канвейлеру в те времена
что тому нужно взять французское гражданство, что будет война и будет черт
знает что. Канвейлер всегда отвечал что возьмет когда выйдет из призывного
возраста но что естественно он не хочет идти в армию по второму разу.
Началась война, Канвейлер с семьей отдыхал в Швейцарии и не смог вернуться.
Все его имущество было конфисковано.
На устроенных правительством торгах по распродаже картин Канвейлера,
почти всех кубистических картин трех предвоенных лет, старая компания
собралась вместе впервые после войны. Теперь, раз война уже кончилась, все
коллекционеры старшего поколения стали прилагать совершенно сознательные
усилия к тому чтобы убить кубизм. Эксперт по распродаже, известный
собиратель, во всеуслышание об этом заявил как о своем намерении. Он будет
по возможности занижать цены и по возможности расхолаживать публику. Как же
было художникам защищаться.
-160-
За несколько дней до общественного показа картин представленных на
распродажу мы были у Браков и Марсель Брак, жена Брака, сказала что они
пришли к решению. Пикассо и Хуан Грис ничего не могли сделать, они были
испанцы а распродажа была французского правительства. Мари Лорансен
формально была немка, Липшиц был русский каковым быть в то время было
непопулярно. Но Брак, француз, получивший croix de guerre* за участие в
наступательных боях, произведенный в офицеры и награжденный орденом
Почетного легиона, мог делать все что хотел. У него был еще и формальный
повод для ссоры с экспертом. Он прислал список возможных покупателей своих
картин, такое право всегда предоставляется художнику если его картины
продаются с торгов, а этим людям не прислали каталоги. Когда мы пришли Брак
уже исполнил то что от него требовалось. Мы пришли как раз в конце
потасовки. Все были очень взволнованы.
Брак подошел к эксперту и сказал что тот пренебрег своими прямыми
обязанностями. Эксперт ответил что он делает и будет делать что хочет и
назвал Брака нормандской свиньей. Брак ударил его. Брак был крупный мужчина
а эксперт нет, Брак старался бить не слишком сильно но эксперт тем не менее
упал. Приехала полиция и их забрали в участок Там они рассказали о
происшедшем. К Браку как к герою войны конечно отнеслись со всем надлежащим
почтением, а когда он обратил-
* крест "За боевые заслуги" (фр.)
-161-
ся к эксперту на ты эксперт совершенно потерял самообладание и понятие
о приличиях и получил публичный выговор от полицейского судьи. Как только
все кончилось появился Матисс и стал спрашивать что произошло и что
происходит. Гертруда Стайн сказала. Матисс сказал, и то как он это сказал
было очень в духе Матисса, Braque a raison, celui-1а а vо1е 1á France, еt-
on sait bien се que c'est voler 1а France*.
Покупателей в самом деле распугали и все картины кроме картин Дерена
пошли почти за бесценок. Бедный Хуан Грис чьи картины пошли совсем за
бесценок старался не падать духом. Их все же продали по достойной цене,
сказал он Гертруде Стайн, но ему было неприятно.
По счастью Канвейлеру, который не воевал против Франции, в следующем
году разрешили вернуться. Остальным он был больше не нужен но Хуану он был
нужен безумно, и преданность и великодушие Канвейлера по отношению к Хуану
Грису все эти трудные годы могут соперничать лишь с преданностью и
великодушием самого Хуана когда наконец перед самой своей смертью и он
прославился и стал получать выгодные предложения от других коллекционеров.
То что Канвейлер приехал в Париж и стал защищать коммерческие интересы
кубистов сильно меняло их положение. Их настоящее и будущее были обеспечены.
* Брак правильно поступил, ведь тот обокрал Францию, а все знают, что
такое обокрасть Францию (фр.)
-162-
Пикассо перехали из старой мастерской на рю Равиньян в квартиру на
бульваре Клиши. Фернанда стала покупать мебель и держать прислугу и конечно
прислуга готовила суфле. Это была хорошая и очень солнечная квартира. Но в
целом Фернанда была счастлива уже меньше прежнего. У них бывало очень много
народу и был даже вечерний чай. Много бывал Брак, это был расцвет дружбы
Брака и Пикассо, это в то время они начали изображать на своих картинах
музыкальные инструменты. Это также было время начала конструкции у Пикассо.
Он составлял натюрморты из предметов и фотографировал их. Бумажные
конструкции он делал позднее, одну такую конструкцию он подарил Гертруде
Стайн. Может быть она единственная сохранилась.
Это было еще и в то время когда я впервые услышала о Пуаре. У него был
плавучий дом на Сене и он устроил там званый вечер и пригласил Пабло и
Фернанду. Он подарил Фернанде красивый розовый шарф с золотой бахромой и еще
он подарил фантази из стекляруса которое прикалывалось на шляпу, очень
необычно по тем временам. Фантази она подарила мне и много лет я носила его
на маленькой соломенной шляпке с острым верхом. Оно есть у меня может быть
даже теперь.
Потом был самый младший кубист. Я никогда не знала как его зовут. Он
служил в армии и был определен в дипломаты. Откуда он взялся и писал ли он я
не знаю. Знаю только что о нем знали что он самый младший кубист.
-163-
У Фернанды была в то время новая подруга о которой она мне часто
рассказывала. Это была Ева которая жила с Маркусси. И как-то вечером все они
вчетвером, Пабло, Фернанда, Маркусси и Ева, пришли на рю де Флерюс. Это был
единственный раз когда мы видели Маркусси прежде чем увидеть его много лет
спустя.
Я прекрасно понимала почему Фернанде нравится Ева. Как я уже говорила
самой великой героиней Фернанды была Эвелина Тоу, невысокая и порочная. Ева
же была маленькая французская Эвелина Тоу, невысокая и добродетельная.
Вскоре после этого Пикассо как-то пришел и сказал что он решил снять
мастерскую на рю Ра-виньян. Там ему лучше работалось. Прежнюю он получить
обратно не мог но занял мастерскую этажом ниже. Однажды мы к нему туда
пошли. Его не было и Гертруда Стайн в шутку оставила свою визитную карточку.
Через несколько дней мы пошли опять, Пикассо работал над картиной на которой
было написано ma jolie* и в нижнем углу нарисована визитная карточка
Гертруды Стайн. Когда мы уходили Гертруда Стайн сказала, Фернанда точно не
ma jolie, интересно кто это. Через несколько дней мы узнали, Пабло увел Еву.
Это было весной. На лето все они имели обыкновение ездить под Перпиньян
в Сере, может быть из-за Маноло, и несмотря ни на что все они поехали туда
снова. Фернанда поехала с семейством Пишо а Ева поехала с Пабло. Было
несколько ужасных сражений а потом все вернулись в Париж.
* Моя милая (фр.).
-164-
Как-то вечером, мы тоже уже приехали, зашел Пикассо. Они с Гертрудой
Стайн долго говорили с глазу на глаз. Это был Пабло, сказала она когда она
пришла попрощавшись с ним и он замечательно сказал о Фернанде, он сказал что
его всегда удерживала ее красота но он совершенно не выносит ее мелких
привычек. Еще она добавила что Пабло и Ева теперь живут на бульваре Распай и
что мы завтра пойдем к ним в гости.
Между тем Гертруда Стайн уже получила письмо от Фернанды, очень
достойное, написанное со сдержанностью француженки. Она говорила что она
хотела бы сказать Гертруде Стайн что она прекрасно понимает что дружба
всегда была дружбой с Пабло и хотя Гертруда всегда оказывала ей всевозможные
знаки симпатии и расположения теперь когда они с Пабло расстались никакие
дальнейшие отношения между ними естественно невозможны поскольку дружба
всегда была дружбой с Пабло а значит о выборе конечно не может быть речи.
Что она навсегда сохранит приятные воспоминания об их отношениях и что в
случае крайней необходимости позволит себе воспользоваться ее великодушием.
И вот Пикассо оставил Монмартр и больше туда не вернулся.
Когда я впервые появилась на рю де Флерюс Гертруда Стайн правила
корректуру Трех жизней. Вскоре я ей уже помогала а еще через недолгое время
книга вышла. Я попросила чтобы она позволила мне сделаться подписчиком в
бюро вырезок Ромейке, реклама Ромейке в сан-францисском Ар-
-165-
гонавтс была большой любовью моего детства. Вскоре стали приходить
вырезки.
Сколько газет откликнулись на эту книгу совершенно неизвестного автора
и изданную за его счет, это просто удивительно. Больше всего Гертруде Стайн
понравилась заметка в Канзас Стар. Она часто спрашивала и тогда и потом кто
бы это мог ее написать но так и не узнала. Это была очень сочувственная и
очень толковая рецензия. Обескураженная потом другими рецензиями она
говорила что та все это время была для нее большим утешением. В Композиции
как объяснении она говорит, когда пишешь вещь она совершенно прозрачна а
потом начинаешь в ней сомневаться но потом ее перечитываешь и в ней так же
теряешься как терялся когда писал.
Что еще порадовало ее в связи с ее первой книгой это очень хвалебное
письмо Г. Дж. Уэллса. Много лет она хранила его отдельно так оно много для
нее значило. В то время она ему написала и они должны были встретиться но
никогда не встречались. И вряд ли уже встретятся теперь.
В то время Гертруда Стайн писала Становление американцев. Из истории
семьи оно превратилось в историю всех знакомых семьи а потом в историю самых
разных людей и каждого отдельного человека. Но несмотря на все это там был
герой и он должен был умереть. В тот день когда он умер я встретилась с
Гертрудой Стайн и Милдред Олдрич. Милдред очень любила Гертруду Стайн и ей
было очень интересно чем закончилась книга. В книге было больше тысячи
страниц и я ее перепечатывала.
-166-
Я всегда говорю что нельзя по-настоящему увидеть картину или
по-настоящему увидеть предмет пока не начнешь каждый день вытирать с них
пыль а книгу нельзя понять пока ее не перепечатаешь или не вычитаешь в
корректуре. Она тогда действует на тебя так как никогда не действует только
чтение. Много позже Джейн Хип сказала что она оценила достоинства Гертруды
Стайн только после того как как однажды вычитала корректуру ее книги.
Когда Становление американцев было закончено Гертруда Стайн начала
другую книгу которая тоже должна была быть длинной и которую она называла
Длинная веселая книга, но длинными ни она, ни другая книга Много много
женщин, начатая тогда же, не получились потому что работа над ними была
прервана писанием портретов. Портреты начались так. В воскресенье вечером
Элен обычно сидела дома с мужем, то есть она всегда выражала желание прийти
но мы часто говорили ей не беспокоиться. Я люблю готовить, я прекрасно
готовлю на скорую руку и к тому же Гертруде Стайн нравится когда время от
времени я готовлю американские блюда. Однажды в воскресенье вечером я именно
этим и занималась а потом я позвала Гертруду Стайн выйти из ателье
поужинать. Она пришла очень взволнованная и не стала садиться за стол. Я
хочу вам кое-что показать, сказала она. Нет, ответила я, это блюдо надо есть
горячим. Нет, сказала она, сначала посмотрите. Гертруда Стайн ничего не
любит есть горячим а я люблю все, мы постоянно спорим. Она согласна что мож-
-167-
но подождать пока еда остынет но разогреть ее когда она уже на тарелке
нельзя, поэтому мы договорились что ее подают такой горячей какой люблю я.
Несмотря на мои возражения и остывавшую еду мне пришлось читать. Я до сих
пор вижу маленькие тетрадные странички исписанные вдоль и поперек. Это был
портрет Ады, первый в сборнике География и пьесы. Я начала читать и подумала
что она меня разыгрывает и я возмутилась,
она говорит что теперь я точно так же возмущаюсь из-за своей
автобиографии. В конце концов я прочла его целиком и мне ужасно понравилось.
А потом мы поужинали.
С Ады начался длинный цикл портретов. У нее написаны, и написаны во
всевозможных манерах и всевозможных стилях портреты почти всех кого она
знает.
После Ады появились портреты Матисса и Пикассо, и Штиглиц которого
очень интересовали и они и Гертруда Стайн, напечатал их в специальном
выпуске Камера Уорк.
Она начала тогда писать короткие портреты всех кто бывал в доме. Она
написала портрет Артура Фроста, сына американского иллюстратора А. Б.
Фроста. Фрост был ученик Матисса и когда он прочитал свой портрет и узнал
что он на целых три страницы длиннее чем портреты и Матисса и Пикассо он так
возгордился что это нужно было слышать.
А. Б. Фрост пожаловался Пату Брюсу который привел Фроста к Матиссу что
жаль что Артур не понимает как ему стать обычным художником и
-168-
таким образом прославиться и разбогатеть. Пригнать гнать коня к реке
пригонишь но пить-то его силком не заставишь, сказал Пат Брюс. Очень многие
кони пьют, мистер Брюс, сказал А. Б. Фрост.
Брюс, Патрик Генри Брюс, был одним из первых и самых рьяных учеников
Матисса, вскоре он стал рожать маленьких Матиссов но счастлив не был.
Объясняя почему он несчастен он сказал Гертруде Стайн, говорят о страданиях
великих художников, о том как трагически несчастны великие художники но они
же великие художники. Маленький художник так же трагически несчастен как и
великий художник и переживает все те же страдания а он не великий художник.
Она написала портрет Надельмана а еще портреты двух протеже скульпторши
миссис Уитни, Аи и Рассела, а еще Гарри Фелана Гибба, своего первого и
лучшего английского друга. Она написала портреты Мангена и Роше и Пурман а и
Давида Эндстрома, толстого шведского скульптора который женился на даме
возглавлявшей Христианскую научную церковь в Париже и погубил эту даму. И
Бреннера, скульптора Бреннера который никогда ничего не заканчивал. У него
была блестящая техника и много навязчивых идей которые мешали ему работать.
Гертруда Стайн относилась и относится к нему с большой симпатией. Однажды
она позировала ему несколько недель и он выполнил ее фрагментарный портрет,
очень хороший. Они с Коуди опубликовали потом несколько номеров маленького
журнальчика под названием Сойл и они одними из самых первых напечатали
Гертруду Стайн. Единственный
-169-
маленький журнальчик который их опередил был Роуг, его печатал Алан
Нортон и там напечатали ее описание галереи Лафайет. Все это конечно было
уже гораздо позже и произошло при посредничестве Карла Ван Вехена.
Еще она написала портреты мисс Этты Коун и ее сестры доктора Кларибел
Коун. Еще она написала портреты мисс Марс и мисс Сквирс под названием Мисс
Фер и мисс Скин. Были портреты Мидлред Олдрич и ее сестры. Всем давали
читать их портреты и все были очень довольны и это все было очень забавно.
Все это заняло большую часть зимы а потом мы поехали в Испанию.
В Испании Гертруда Стайн начала писать вещи которые вылились в сборник
Нежные пуговицы.
Мне безумно понравилась Испания. Мы ездили в Испанию несколько раз и с
каждым разом она нравилась мне больше и больше. Гертруда Стайн говорит что я
беспристрастна во всех вопросах кроме Испании и испанцев.
Мы поехали прямо в Авилу и я сразу же отдала Авиле свое сердце, я
должна остаться в Авиле навсегда, утверждала я. Гертруда Стайн очень
опечалилась, в Авиле неплохо, но ей, утверждала она, нужен Париж. Я же
понимала что мне нужна только Авила. Мы яростно спорили. Тем не менее мы
пробыли там десять дней а поскольку святая Тереза была героиней юности
Гертруды Стайн в Авиле нам чрезвычайно понравилось. В опере Четверо святых
написанной несколько лет тому назад она описывает пейзаж который так сильно
меня взволновал.
-170-
Мы поехали дальше в Мадрид и в Мадриде мы встретили Джоржиану Кинг из
Брин Мора, давнюю приятельницу Гертруды Стайн по Балтимору. Джоржиана Кинг
написала один из самых интересных первых критических отзывов о Трех жизнях.
Тогда она переиздавала Соборы Испании Стрита и по этому случаю объездила всю
Испанию. Она дала нам много ценных советов.
Гертруда Стайн носила тогда коричневый вельветовый костюм, пиджак и
юбку, маленькую соломенную шляпку которую ей всегда вязала одна женщина во
Фьезоле, сандалии, и она часто ходила с палкой. В то лето у палки был
янтарный набалдашник. Примерно в таком костюме без шляпки и палки и написал
ее Пикассо на своем портрете. Такой костюм был идеальным для Испании, все
думали что она принадлежит к какому-нибудь религиозному ордену и с нами
всегда были предельно почтительны. Помню как однажды монахиня показывала нам
сокровища одной монастырской церкви в Толедо. Мы стояли возле алтарных
ступеней. Вдруг раздался грохот, Гертруда Стайн уронила палку. Монахиня
побледнела, прихожане вздрогнули. Гертруда Стайн подобрала палку и
наклонившись к перепуганной монахине сказала успокоительным тоном, нет, она
цела.
Я в ту пору путешествий по Испании ходила, как у меня это называлось,
переодетой испанкой. Я всегда носила черный шелковый плащ, черные перчатки и
черную шляпу, единственной вольностью которую я себе позволяла были красивые
искусственные цветы на шляпе. Цветы всегда ужас-
-171-
но интриговали крестьянок и они очень деликатно просили разрешения до
них дотронуться желая самостоятельно убедиться в том что они искусственные.
Тем летом мы съездили в Куэнку, нам рассказал о ней английский художник
Гарри Гибб. Гарри Гибб это необычный случай человека который все предвидел.
В молодости он был преуспевающим анималистом в Англии, он родился на севере
Англии, он женился и уехал в Германию, в Германии он разочаровался в том чем
он занимался и узнал о новой школе живописи в Париже. Он приехал в Париж и
сразу же попал под влияние Матисса. Тогда он заинтересовался Пикассо и под
их соединенным влиянием некоторое время писал совершенно удивительные
картины. Потом от всего этого вместе взятого его бросило к чему-то другому к
чему-то такому в чем с большой полнотой достигалось то к чему после войны
стремились сюрреалисты. Единственное чего ему не хватало это, как говорят
французы, sаvеur*, так сказать, благостности картины. Из-за этого он не мог
найти французского зрителя. Английского зрителя в то время естественно не
было, Гарри Гибб попал на плохое время. Он всегда попадал на плохое время.
Он и его жена Бриджит, одна из самых приятных жен гениев с которыми я
сидела, были исполнены мужества и все переносили с большим достоинством, но
время всегда было очень трудное. А затем стало немного лучше. Он нашел
двух-трех покровителей
* Вкус, сочность (фр.).
-172-
которые в него поверили и это в то время, с двенадцатого на тринадцатый
годы он поехал в Дублин и там у него была довольно эпохальная выставка. Это
в то время он взял с собой несколько экземпляров портрета Мейбл Додж на
вилле Курония, Мейбл Додж напечатала его во Флоренции, и это тогда
дублинские писатели в их кафе услышали как вслух читают Гертруду Стайн.
Доктор Гогарти, хозяин и поклонник Гарри Гибба, сам любил читать ее вслух и
любил когда читали другие.
Потом началась война и с ней закат бедного Гарри, и непрерывная долгая
печальная борьба. У него бывали взлеты и падения, больше падений чем
взлетов, и только совсем недавно колесо фортуны повернулось вновь. Нежно
любя обоих, Гертруда Стайн была всегда убеждена что двух художников ее
поколения, Хуана Гриса и Гарри Гибба, откроют посмертно потому что при жизни
им был уготован трагический удел. Хуан Грис который уже пять лет как умер
начинает получать признание. Гарри Гибб пока жив и пока не известен.
Гертруда Стайн и Гарри Гибб всегда были верными и очень любящими друзьями.
Одним из первых своих портретов она написала его портрет, он был напечатан в
Оксфорд Рсвью а потом в Географии и пьесах.
Итак Гарри Гибб рассказал нам о Куэнке и мы поехали по маленькой
железной дороге которая петляла и обрывалась в никуда и приехали в Куэнку.
Мы были без ума от Куэнки а население Куэнки было без ума от нас. Оно
было настолько от нас
-173-
без ума что это становилось обременительным. Потом мы как-то пошли
гулять и увидели что население, в особенности дети, держатся от нас на
почтительном расстоянии. Вскоре к нам подошел человек в мундире, отдал честь
и сказал что он городской полицейский и губернатор провинции поручил ему
постоянно находиться в некотором отдалении от нас во время наших прогулок
чтобы нам не досаждало население и что это, как он надеется, не причинит нам
неудобств. Неудобств нам это не причиняло, он оказался очень милым и
показывал красивые места куда мы бы сами не добрались. Такова была Испания в
прежние времена.
Потом мы опять вернулись в Мадрид и в Мадриде открыли Аргентину и бой
быков. Незадолго перед тем ее открыли молодые испанские журналисты. Мы
случайно попали на ее представление в мюзик-холле, мы ходили туда смотреть
испанские танцы, и после того раза когда мы впервые увидели ее мы ходили на
все дневные программы и на все вечерние. Мы ходили на бой быков. Сначала
меня просто переворачивало и Гертруда Стайн говорила, а теперь смотрите, а
теперь не смотрите, пока наконец я не смогла смотреть все время.
Потом мы поехали в Гранаду и пробыли там некоторое время и в Гранаде
Гертруда Стайн безумно много работала. Она всегда очень любила Гранаду. Это
в Гранаде она впервые почувствовала Испанию когда она еще училась и когда
сразу после американо-испанской войны они с братом проехали по Испании. Это
было потрясающе и она всегда рассказывает как они сидели в ресторане и
-174-
разговаривали с одним бостонцем и его дочерью и вдруг раздался ужасный
звук, ослиное ржание. Что это, дрожа спросила молодая бостонка. А, сказал ее
отец, это последний вздох Мавра.
Нам очень нравилось в Гранаде, у нас было много любопытных знакомств
среди англичан и испанцев и это там и тогда постепенно изменился стиль
Гертруды Стайн. Она говорит что прежде ее интересовало в людях только
внутреннее, их характер и то что у них внутри происходит, и это тем летом у
нее впервые появилось желание выразить ритм видимого мира.
Это был процесс мучительный и долгий, она смотрела, слушала и
описывала. Ее всегда мучила и мучает проблема внутреннего и внешнего. В
живописи ее еще всегда беспокоят те затруднения которые испытывает художник
и которые заставляют его писать натюрморты, то, что живописать человеческую
природу в сущности невозможно. Совсем недавно она снова стала считать что
художники в чем-то помогли разрешению этой проблемы. Она интересуется
Пикабиа которым никогда не интересовалась прежде потому что он по крайней
мере знает что если ты не решишь свою живописную задачу изображая людей то
ты ее не решишь вообще. Перед этой проблемой стоит еще один последователь
Пикабиа, но решит ли он ее. Наверное нет. Во всяком случае вот о чем она
всегда говорит, а тогда ей самой предстояло начать долгую борьбу на этом
пути.
В то время она писала Сузи Азадо, Пресиоциллу и Цыган в Испании. Она
пускалась на всевоз-
-175-
можные эксперименты в попытках описывать. Она немного попыталась
придумывать слова но быстро от этого отказалась. Ее материалом был
английский язык а с помощью английского языка задачу суждено было выполнить,
проблему разрешить. Ей претило использование выдуманных слов, это было
бегство в мнимую эмоциональность.
Нет, она осталась верна своей задаче, хотя вернувшись в Париж она
описывала комнаты и предметы, и все это вместе с ее первыми испанскими
экспериментами составило сборник Нежные пуговицы.
Но главный предмет изучения для нее всегда были люди и отсюда
нескончаемый цикл портретов.
Как обычно мы вернулись на рю де Флерюс.
В числе людей которые произвели на меня очень большое впечатление когда
я только появилась на рю де Флерюс была Милдред Олдрич.
Милдред Олдрич тогда было немного за пятьдесят, это была полная
энергичная женщина с лицом Джорджа Вашингтона, седая, в изумительно чистой
одежде и перчатках. Очень выделявшаяся и приятно поражавшая фигура в
многонациональной компании. Она и правда была из тех о ком Пикассо мог
сказать и сказал, с'еst еllе qui fега 1а g1оire de L'Amerique*. Рядом с ней
становилось приятно за свою страну, ту которая ее породила.
Ее сестра уехала в Америку, и она жила одна на последнем этаже дома на
углу бульвара Распай
* Это она прославит Америку (фр.).
-176-
и тупика, рю Буассонад. Там у нее висела на окне громадная клетка с
канарейками. Мы всегда думали это потому что она любит канареек. Ничего
подобного. Однажды на время своего отсутствия приятельница перепоручила ее
заботам канарейку в клетке. Милдред заботилась о канарейке в клетке так же
прекрасно как она делала все остальное. Увидев это и естественно решив что
Милдред любит канареек какая-то приятельница подарила ей еще одну канарейку.
Милдред конечно прекрасно заботилась об обеих канарейках поэтому канарейки
множились а размеры клетки увеличивались до тех пор пока в 1914 году она не
переехала в Юири, на взгорье у Марны и не раздала канареек. Предлог был тот
что за городом канареек съедят кошки. Но действительной причиной, она мне
однажды сказала, была та что на самом деле она терпеть не могла канареек.
Милдред была прекрасная хозяйка. Я, имея о ней совершенно другое
мнение, была очень удивлена застав ее однажды зайдя к ней днем, латающей
простыни и латающей мастерски.
Милдред обожала телеграммы, она обожала быть на мели, вернее она
обожала тратить деньги а поскольку ее способности зарабатывать были хотя и
велики но все же не безграничны, она всегда была на мели. Тогда она
заключала контракты для постановки Синей птицы Метерлинка на американской
сцене. Переговоры велись при помощи бесконечных телеграмм, и мои первые
воспоминания о Милдред связаны с тем как она приходила поздно вечером в нашу
маленькую квартиру на рю
-177-
Нотр Дам де Шам и просила одолжить ей денег на длинную телеграмму.
Через несколько дней деньги возвращались вместе с чудесной азалией на
которую денег тратилось в пять раз больше. Неудивительно что она всегда была
на мели. Но ее все слушали. На свете не было другого такого рассказчика как
Милдред. Вижу ее на рю де Флерюс сидящей в большом кресле и растущее число
слушателей вокруг нее в то время как она говорит.
Она была очень привязана к Гертруде Стайн, очень заинтересована ее
творчеством, очень воодушевлена Тремя жизнями, глубоко потрясена но слегка
встревожена Становлением, американцев, совершенно удручена Нежными
пуговицами, но всегда верна и убеждена что раз Гертруда Стайн что-то делает
значит в этом есть что-то что стоит того.
Ее радость и гордость когда в двадцать шестом году Гертруда Стайн
прочитала о ней лекцию в Кембридже и Оксфорде, трогали. Перед отъездом
Гертруда Стайн должна приехать и прочесть эту лекцию ей. Гертруда Стайн
приехала и прочла, к большому взаимному удовольствию.
Милдред Олдрич нравился Пикассо и нравился даже Матисс, то есть
по-человечески, но что-то ее беспокоило. Скажи, Алиса, это нормально,
однажды спросила она меня, они правда, нормальные, я знаю Гертруда считает
да а Гертруда знает, но это правда не fumistrie, это правда не
надувательство.
Несмотря на отдельные дни сомнений Милдред Олдрич все это нравилось. Ей
нравилось приходить самой и нравилось приводить других. Она привела многих.
Это
-178-
она привела Генри Мак Брайда который тогда сотрудничал в Нью-Йорк Сан.
Это Генри Мак Брайд все эти мучительные годы держал имя Гертруды Стайн перед
глазами читателя. Смейтесь если хотите, говорил он ее недоброжелателям,
смейтесь вместе с ней а не над ней, и вы получите гораздо больше
удовольствия.
Генри Мак Брайд не верил в мирской успех. Он разрушителен, он
разрушителен, обычно говорил он. Но по-вашему Генри, печально спрашивала
Гертруда Стайн, я никогда не буду иметь успеха, немного успеха мне бы
хотелось иметь вы знаете. Подумайте о моих неопубликованных рукописях. Но
Генри Мак Брайд был непреклонен, лучшее что я могу вам пожелать, всегда
говорил он, это вообще не иметь успеха. Только это идет во благо. Здесь он
был непреклонен.
Тем не менее он ужасно обрадовался когда Милдред имела успех и теперь
он говорит что наверное пришло то время когда Гертруда Стайн может себе
позволить немного успеха. Он считает что теперь он не пойдет ей во вред.
Это приблизительно в то время появился Роджер Фрай. Он привел Клайва
Белла и миссис Клайв Белл а потом и многих других. Клайв Белл тогда
прилагался к той паре. Он выражал большое неудовольствие тем что его жена и
Роджер Фрай проявляют повышенный интерес к важнейшим произведениям
искусства. Он очень странно к этому относился. Он был очень занятный, потом
когда он стал настоящим художественным критиком таким занятным он не был.
-179-
Роджер Фрай всегда был очаровательный, очаровательный и гость и хозяин,
когда мы потом были в Лондоне мы съездили к нему на целый день за город.
Он был очень взволнован увидев портрет Гертруды Стайн работы Пикассо.
Он написал о нем статью в Берлингтон Ревью и проиллюстрировал ее двумя
фотографиями помещенными рядом, фотографией этого портрета и фотографией
портрета Рафаэля. Он утверждал что эти две картины равноценны. Он без конца
приводил людей. Вскоре начались толпы англичан Августусы Джон и Лэм,
потрясающе красивый и не очень трезвый Августус Джон, довольно странный и
обаятельный Лэм.
В это же приблизительно время у Роджера Фрая появилось много молодых
учеников. Среди них был Уиндхем Льюис. Уиндхем Льюис, высокий и стройный,
сильно напоминал молодого француза пошедшего в гору, может быть потому что
ноги, или по крайней мере туфли у него были очень французские. Он приходил и
сидел и измерял картины. Нельзя сказать чтобы он действительно измерял их
линейкой но он производил полное впечатление человека занятого тщательным
измерением холста, линий на холсте и всего что может пригодиться. Гертруде
Стайн он очень нравился. Он особенно понравился ей однажды когда он пришел и
рассказал о своей ссоре с Роджером Фраем. Роджер Фрай приходил несколькими
днями раньше и уже о ней рассказывал. Они рассказали совершенно одинаковую
историю только по-разному, очень по-разному.
-180-
В то же приблизительно время стал приходить Причард, сначала из Музея
изобразительных искусств в Бостоне а потом из Кенсингтонского музея. Причард
приводил много молодых оксфордцев. Они очень подходили к ателье, и они
считали что Пикассо потрясающий. Им казалось и отчасти казалось правильно
что он окружен ореолом. С этими оксфордцами пришел Томас Уиттемор из Тафтс
Колледжа. Он был бодрый и обаятельный и позднее к большому удовольствию
Гертруды
Стайн как-то сказал, все голубое драгоценно.
Все кого-нибудь приводили. Характер субботних вечеров как я говорила
постепенно менялся, вернее изменился тип людей которые туда приходили.
Кто-то привел инфанту Евлалию и приводил ее несколько раз. Она была
очаровательна и с лестной памятливостью царственной особы всегда вспоминала
как меня зовут даже когда несколько лет спустя мы совершенно случайно
встретились на Плас Вандом. Она чуть-чуть испугалась когда она только вошла
в ателье. Оно показалось ей каким-то странным местом но со временем очень
понравилось.
Леди Кьюнард привела свою дочь Нэнси, тогда совсем ребенка, и очень
торжественно велела ей никогда не забывать этот день.
Кто еще приходил. Их было так много. Баварский министр привел массу
людей. Жак-Эмиль Бланш приводил прелестных людей и Альфонс Канн тоже.
Приходила леди Отолайн Моррел похожая на Дизраэли в дивном женском облике и
высокая и странная робко медлившая у двери. Приходила
-181-
почти царственная голландка, которую оставил ее сопровождающий,
которому нужно было найти кабриолет и все это короткое время у нее был
страшно испуганный вид.
Приходила румынская принцесса и ее извозчику надоело ждать. Вошла Элен
и решительно заявила что извозчик ждать не будет. А потом решительно
постучав сам извозчик заявил что он ждать не будет.
Разнообразие было бесконечным. И приходили все и ни для кого не делали
никаких различий. Гертруда Стайн безмятежно сидела на стуле и те кто могли
тоже сидели, остальные стояли. Были друзья которые сидели возле печи и
разговаривали и были бесконечные посторонние которые приходили и уходили.
Это очень ярко запечатлелось в моей памяти.
Все повторяю приводили людей. Уильям Кук привел много народу из Чикаго,
очень состоятельных полных дам и не менее состоятельных высоких красивых и
стройных. Тем летом найдя на карте Болеарские острова мы поехали на остров
Майорка и в шлюпке которая туда шла был Кук. Он тоже нашел Майорку на карте.
Мы пробыли там совсем недолго а он жил все лето, а потом он ездил туда опять
и был первой одинокой ласточкой из той тьмы американцев которые после
открыли Пальму. Мы все ездили туда снова во время войны.
Это тем летом Пабло дал нам письмо к другу юности, некоему Равентосу в
Барселоне. А он говорит по-французски, спросила Гертруда Стайн, Пабло
захихикал, лучше вас, Гертруда, ответил он.
-182-
Равентос хорошо нас развлекал, они с потомком де Сото возили нас два
долгих дня, дни были долгие потому что значительная их часть приходилась на
ночь. У них был автомобиль, еще тогда, и они возили нас в предгорье смотреть
ранние церкви. Мы мчались в гору на страшной скорости а потом несколько
медленнее благополучно съезжали вниз и приблизительно раз в два часа
обедали. Когда наконец около десяти вечера мы вернулись в Барселону они
сказали, сейчас мы выпьем по аперитиву а потом пообедаем. Обедать так часто
было утомительно но нам понравилось.
Позже, намного позже на самом деле всего несколько лет тому назад
Пикассо познакомил нас еще с одним другом своей юности.
Они с Сабартесом были знакомы с пятнадцати лет но Гертруда Стайн
никогда о нем не слышала потому что Сабартес исчез в Латинской Америке, в
Монтевидео, в Уругвае прежде чем она познакомилась с Пикассо. Однажды
несколько лет тому назад Пикассо предупредил что приедет с Сабартесом.
Сабартес в Уругвае прочитал несколько вещей Гертруды Стайн в разных журналах
и стал большим поклонником ее таланта. Ему и в голову не могло прийти, что
Пикассо ее знает. Когда впервые за все эти годы он приехал в Париж он
встретился с Пикассо и рассказал ему об этой самой Гертруде Стайн. Но она же
мой единственный друг, сказал Пикассо, это единственный дом куда я хожу.
Возьми меня, сказал Сабартес и так они пришли.
Гертруда Стайн и испанцы друзья от природы и на этот раз тоже
получилась дружба.
-183-
Это приблизительно в то время у футуристов, итальянских футуристов,
была большая выставка в Париже и она наделала много шуму. Все были очень
взволнованы и все пошли потому что выставка проходила в одной очень
известной галерее. Она ужасно расстроила Жака-Эмиля Бланша. Мы застали его
дрожаще бродящим по саду Тюильри и он сказал, с виду как надо а на самом
деле нет. Нет, сказала Гертруда Стайн. Вы меня утешили, сказал Жак-Эмиль
Бланш.
Все футуристы возглавляемые Северини столпились вокруг Пикассо. Он
повел их к нам. Маринетти потом пришел сам, насколько я помню. Во всяком
случае футуристы показались всем очень неинтересными.
Скульптор Эпштейн однажды вечером пришел на рю де Флерюс. Когда в
девятьсот четвертом году Гертруда Стайн только приехала в Париж Эпштейн был
худым и довольно красивым довольно грустным привидением которое то
появлялось то исчезало среди статуй Родена в Люксембургском дворце. Он
проиллюстрировал исследование Хатчинса Хэпгуда о гетто, поехал на эти деньги
в Париж и очень бедствовал. Теперь, когда его впервые видела я, он приехал в
Париж устанавливать на могиле Оскара Уайльда своего сфинкса, памятник Оскару
Уайльду. Это был крупный довольно грузный мужчина, небезынтересный но не
красивый. У него была жена-англичанка с совершенно удивительными коричневыми
глазами, такого оттенка коричневого какого глаза я еще никогда не видела.
Доктор Кларибел Коун из Балтимора царствен-
-184-
но входила и выходила. Она любила читать вслух Гертруду Стайн и читала
ее вслух действительно необычайно хорошо. Она любила непринужденность и
обходительность и удобства. Она и ее сестра Этга Коун путешествовали.
Единственная свободная комната в гостинице была неудобной. Этта попросила
сестру с этим примириться потому что это было только на одну ночь. Этта,
ответила доктор Кларибел, одна ночь имеет такое же значение в моей жизни как
любая другая и мне должно быть удобно. Когда началась война она занималась
научной работой в Мюнхене. Ей было никак не выехать потому что ехать нужно
было всегда без удобств.
Все были в восторге от доктора Кларибел. Много лет спустя Пикассо ее
нарисовал.
Приходила Эмили Чадборн, это она привела леди Отолайн Моррел и еще она
привела много бостонцев.
Милдред Олдрич как-то привела совершенно необыкновенную Миру Эджерли. Я
прекрасно помню что когда совсем в юности я пошла на бал-маскарад,
пасхальный бал в Сан-Франциско, я увидела там очень высокую очень красивую и
очень блистательную женщину. Это была молодая Мира Эджерли. Гент, известный
фотограф, без конца фотографировал ее, чаще всего с кошкой. Она съездила в
Лондон как миниатюристка и имела тот феноменальный успех какой действительно
имеют американцы в Европе. Она нарисовала миниатюры всех и королевской семьи
и все равно осталась по-санфранцисски искренней, веселой, беспечной
-185-
и открытой. Теперь она приехала в Париж немного поучиться. Она
познакомилась с Милдред Олдрич и стала ей очень предана. В девятьсот
тринадцатом году когда способность зарабатывать у Милдред сильно уменьшилась
именно Мира обеспечила ей ежегодный доход и возможность удалиться на взгорье
у Марны.
Мира Эджерли была очень искренне заинтересована в том чтобы Гертруда
Стайн стала известна шире. Когда Милдред рассказала ей обо всех
неопубликованных рукописях Мира ответила, нужно что-то делать. И конечно
сделала
Она была немного знакома с Джоном Лейном и сказала что нам с Гертрудой
Стайн нужно съездить в Лондон. Но сперва Мире а потом мне нужно было
написать всем письма о Гертруде Стайн. Она сказала по какому образцу их
писать. Начиналось помню так, мисс Гертруда Стайн как вы может быть знаете а
может быть нет, является, а дальше говорилось то, что вы имели сказать.
Уступив настойчивым призывам Миры мы поехали на несколько недель в
Лондон зимой две-надцатого-тринадцатого года. Мы действительно очень хорошо
провели время.
Мы остановились вместе с Мирой у полковника Роджерса и миссис Роджерс в
Риверхилле, в Саррее. Это было неподалеку от Ноула и Игтэм Моута, прекрасных
и замков и парков. Это был мой первый опыт жизни в английской усадьбе с тех
пор как в очень нежном возрасте я была разве что только в яслях. Я
наслаждалась каждой минутой. Комфорт, камины, высокие горничные похо-
-186-
жие на благовещенских ангелов, прекрасные сады, дети, общая
непринужденность. И обилие предметов и красивых вещей. Что это, спрашивала я
у миссис Роджерс, а это я совсем не знаю что такое, оно здесь было когда я
приехала. Оттого мне казалось будто в доме побывало множество очаровательных
невест которые приезжая обнаруживали все эти вещи.
Гертруде Стайн нравилось жить в усадьбах меньше чем мне. Ей мешали
непрерывное приятное неровное течение разговора, несмолкающий звук
человеческого голоса говорящего по-английски.
В следующий и тот наш приезд в Лондон когда, застигнутые войной, мы
очень долго жили в усадьбах друзей ей удавалось довольно много уединяться в
течение дня и пропускать по крайней мере одну из трех или четырех трапез, и
так ей нравилось больше.
Мы действительно хорошо провели время в Англии. У Гертруды Стайн
совершенно изгладилось давнее мрачное воспоминание о Лондоне и с тех пор
она очень любит туда приезжать. Мы съездили за город к Роджеру Фраю и нас
прелестно развлекала его сестра-квакерша Мы съездили к леди Отолайн Моррел и
со всеми познакомились. Мы съездили к Клайву Беллу. Мы все время куда-нибудь
ездили, мы ездили по магазинам и заказывали вещи. У меня до сих пор
сохранились сумка и шкатулка для драгоценностей. Мы необычайно хорошо
проводили время. И мы очень часто ездили к Джону Лейну. На самом деле каждое
воскресе-
-187-
нье нам полагалось приезжать к нему на чай и несколько раз Гертруда
Стайн встречалась с ним в издательстве. Как хорошо я изучила все вещи во
всех магазинах около Бодли Хэд потому что пока Гертруда Стайн сидела с
Джоном Лейном внутри пока еще ничего ничего не происходило и потом когда
наконец что-то произошло я ждала снаружи и все рассматривала.
На воскресных приемах у Джона Лейна было очень забавно. В тот первый
приезд в Лондон насколько я помню мы ходили дважды.
Джон Лейн был полон интереса. Миссис Джон Лейн была бостонка и очень
любезна.
Чаепитие на воскресных приемах у Джона Лейна, это было нечто. У Джона
Лейна были Три жизни и Портрет Мейбл Додж. Было непонятно почему он их
показывает именно тем кому он их показывает. Он никому не давал читать ни ту
ни другую книгу. Он давал их подержать а потом отбирал и неслышно
провозглашал что Гертруда Стайн находится среди нас. Никого ни с кем не
знакомили. Время от времени Джон Лейн водил Гертруду Стайн по комнатам и
показывал ей картины, странные картины английских школ всех периодов, иногда
очень милые. Изредка он рассказывал как та или другая картина у него
появилась. Ничего другого он никогда о картине не говорил. Еще он показал ей
очень много рисунков Бердсли и они говорили о Париже.
В следующее воскресенье он снова пригласил ее в Бодли Хэд. Встреча
длилась долго. Он сказал что миссис Лейн прочитала Три жизни и очень
-188-
высоко оценила эту книгу а он чрезвычайно доверяет ее суждению. Он
спросил Гертруду Стайн когда она собирается снова приехать в Лондон. Она
сказала что она вероятно не собирается снова приехать в Лондон. В таком
случае, сказал он, думаю что когда вы приедете в июле мы сможем о чем-нибудь
договориться. Может быть, прибавил он, мы могли бы с вами увидеться в начале
весны в Париже.
И так мы уехали из Лондона Мы были в общем очень довольны собой. Мы
хорошо провели время и Гертруда Стайн впервые в жизни разговаривала с
издателем.
Милдред Олдрич в субботу вечером часто приводила целые компании.
Однажды с ней пришла большая компания и там была Мейбл Додж. Первое
впечатление от нее мне очень запомнилось.
Это была полноватая женщина с очень плотной тяжелой челкой закрывавшей
лоб, с тяжелыми длинными ресницами и очень красивыми глазами и очень
старомодной манерой кокетничать. У нее был красивый голос. Она мне напомнила
героиню моей юности, актрису Джорджию Кейван. Она пригласила нас погостить у
нее во Флоренции. На лето мы собирались как у нас тогда было заведено
поехать в Испанию но к осени собирались вернуться в Париж и может быть тогда
мы приедем. Когда мы вернулись нас ждало несколько срочных телеграмм от
Мейбл Додж с приглашением приехать на виллу Курония и мы поехали.
Мы очень весело провели время. Нам нравился Эдвин Додж и нам нравилась
Мэйбл Додж но осо-
-189-
бенно нравилась Констанс Флетчер с которой мы там познакомились.
Констанс Флетчер приехала через день-два после нас и я пошла на вокзал
ее встречать. По описанию Мейбл Додж это была очень крупная женщина в платье
цвета бордо и глухая. На самом деле она была в зеленом и не глухая а очень
близорукая, и она была замечательная.
Ее отец и мать родились и жили в Ньюбери-порте, в Род-Айленде. Оттуда
же были родные Эдвина Доджа и это их сближало. Когда Констанс было
двенадцать лет ее мать влюбилась в учителя английского младшего брата
Констанс. Констанс понимала что мать уйдет из дома. Неделю Констанс лежала
на кровати и плакала а потом уехала с матерью и будущим отчимом в Италию.
Отчим был англичанин и Констанс страстно сделалась англичанкой. Отчим был
художник и имел известность в кругу англичан живших в Италии.
Когда Констанс было восемнадцать, она написала бестселлер под названием
Кишмет и обручилась с лордом Лавласом потомком Байрона.
Она не вышла за него замуж и с тех пор постоянно жила в Италии. В конце
концов она обосновалась в Венеции. Это произошло после смерти родителей.
Мне как калифорнийке всегда нравилось ее описание Хоакин Миллер в Риме во
времена ее молодости.
Теперь в свои относительно преклонные годы она была привлекательна и
эффектна Я очень люблю вышивание и я восхищалась тем как она вышивала
цветочные венки. У нее не было рисунка на
-190-
ткани, она просто держала ее в руках время от времени поднося вплотную
к одному глазу, и постепенно появлялся венок. Она очень любила духов. На
вилле Курония их было двое и Мейбл Додж очень любила ими пугать
гостей-американцев а при ее многозначительной манере выражаться это
прекрасно ей удавалось. Как-то раз она напугала до умопомрачения целый дом
гостей где были Джо и Иванна Дэвидсоны, Флоренс Брэдли, Мэри Фут и еще
несколько человек. И под конец для полноты впечатления она призвала местного
священника для изгнания духов. Но Констанс Флетчер любила духов и особенно
отличала младшего, это был задумчивый дух английской гувернантки которая
покончила с собой в этом доме.
Однажды утром я зашла в спальню к Констанс Флетчер справиться о ее
самочувствии, накануне вечером она себя чувствовала неважно.
Я вошла и закрыла за собой дверь. Очень большая и очень седая Констанс
Флетчер лежала на одной из просторных кроватей эпохи Возрождения которыми
была меблирована вилла. У двери стоял большой шкаф эпохи возрождения. Я
чудесно провела ночь, сказала Констанс Флетчер, милый дух всю ночь ко мне
приходил, на самом деле она ушла только что. Наверное она еще в шкафу,
откройте его пожалуйста. Я открыла. Она там, спросила Констанс Флетчер. Я
ответила что ничего не вижу. Хорошо, сказала Констанс Флетчер.
Мы чудесно проводили время и в то время Гертруда Стайн написала портрет
Мейбл Додж. Еще она написала портрет Констанс Флетчер который
-191-
позже был напечатан в Географии и пьесах. Намного позже на самом деле
после войны в Лондоне на приеме который давала Эдит Ситуэлл в честь Гертруды
Стайн я познакомилась с Зигфридом Сассуном. Он заговорил о портрете Констанс
Флетчер Гертруды Стайн который он прочитал в Географии и пьесах и сказал
что из-за этого портрета он заинтересовался творчеством Гертруды Стайн. И
прибавил, а вы ее знали и если знали то расскажите о ее удивительном голосе.
Значит вы ее не знали, очень заинтересованно спросила я. Нет, ответил он, я
ее никогда не видел но она поломала мне жизнь. Как, взволнованно спросила я.
Так, ответил он, что она разлучила моих отца и мать.
Констанс Флетчер написала пьесу под названием Зеленые чулки которая
имела большой успех и долго шла в Лондоне но ее настоящая жизнь протекала в
Италии. Она была больше итальянка чем сами итальянцы. Она преклонялась перед
отчимом и поэтому была англичанкой но в действительности была послушна
тонкой итальянской руке Макиавелли. Она умела интриговать и интриговала
по-итальянски еще лучше чем итальянцы и много лет была возмутительницей
спокойствия в Венеции не только среди англичан но и среди итальянцев.
Когда мы гостили на вилле Курония приезжал Андре Жид. Это был довольно
скучный вечер. И тогда же мы познакомились с Мюриэл Дрейпер и Полом
Дрейпером. Пол всегда очень нравился Гертруде Стайн. Она восхищалась его
американской восторженностью и объяснением всего музыкального и
человеческого. У него было много приклю-
-192-
чений на Западе и это их тоже сближало. Когда Пол Дрейпер уехал потому
что он уже возвращался в Лондон Мейбл Додж получила телеграмму в которой
говорилось, пропал жемчуг подозреваем второго. Она пришла к Гертруде Стайн в
большом волнении и стала спрашивать что же ей делать. Не будите меня,
сказала Гертруда Стайн, ничего не делайте. А потом уже сидя, но хорошо
говорить, подозреваем второго, кто такой и что такое второй, просто
прелестно, но кто такой и что такое второй. Мейбл объяснила что в последний
раз когда на вилле было ограбление полиция сказала что не может ничего
предпринять потому что никого конкретно не подозревали и на этот раз во
избежание подобных осложнений Пол решил подозревать второго слугу из мужской
прислуги. Пока давались эти разъяснения пришла еще одна телеграмма, жемчуг
нашелся. Второй положил жемчуг в шляпную коробку.
Еще во Флоренции были Хавейс и его жена, впоследствии Мина Лой. У них
шел ремонт и дом был в разобранном состоянии но они все привели в порядок и
устроили нам чудесный ужин. И Хавейс и Мина одними из самых первых
заинтересовались творчеством Гертруды Стайн. Хавейс пришел в восторг от тех
отрывков из Становления американцев которые он прочитал в рукописи. Но все
же он молил о запятых. Гертруда Стайн сказала что запятые не нужны, смысл
должен быть понятен сам по себе а не проясняться запятыми и вообще запятые
только знак что нужно остановиться и перевести дыхание а человек сам должен
-193-
знать когда он хочет остановиться и перевести дыхание. Но все же Хавейс
ей очень нравился и он подарил ей прелестный рисунок которым можно было
обмахиваться как веером, поэтому она подарила ему две запятые. Нужно все же
добавить что перечитывая рукопись она эти запятые убрала.
Мине Лой было не менее интересно но понятно без запятых. Ей всегда
бывало понятно.
Когда Гертруда Стайн написала Портрет Мейбл Додж Мейбл Додж сразу же
захотелось увидеть его напечатанным. Она заказала триста экземпляров целиком
из флорентийской бумаги. Констанс Флетчер прочла корректуру и мы все были
ужасно довольны. Мейбл Додж сразу же решает что Гертруду Стайн должны
приглашать из одного загородного дома в другой писать портреты а в конце
концов она стала бы писать портреты американских миллионеров и обеспечила бы
себе очень увлекательную и прибыльную карьеру. Гертруда Стайн смеялась.
Немного погодя мы уехали обратно в Париж.
Это той зимой Гертруда Стайн начала писать пьесы. Началось это с пьесы
Случилась пьеса. Она была написана об одном званом ужине у Гарри и Бриджет
Гибб. Потом она написала Женские голоса. Ей до сих пор интересно писать
пьесы. Она говорит что пейзаж так естественно приспособлен для сражения или
пьесы что надо писать пьесы.
Зимой в Париже жила Флоренс Брэдли, приятельница Мейбл Додж. Она имела
некоторый режиссерский опыт и ей было интересно спроектировать небольшой
театр. Ей было безумно инте-
-194-
ресно поставить эти пьесы. Демут в то время тоже был в Париже. Тогда
его больше интересовала литература чем живопись и особенно интересовали эти
пьесы. Они с Флоренс Брэдли постоянно их обсуждали.
Гертруда Стайн с тех пор не видела Демута Когда она узнала что он
занимается живописью она очень заинтересовалась. Они никогда не
переписывались но часто передавали друг другу привет через общих знакомых.
Демут всегда просил передать что когда-нибудь он напишет маленькую картину
которой он будет безусловно доволен и ей пришлет. И конечно спустя все эти
годы, два года тому назад кто-то в наше отсутствие оставил на рю де Флерюс
маленькую картину с запиской что это картина которую Демут готов подарить
Гертруде Стайн. Это удивительный маленький пейзаж и на нем такие нежные окна
и крыши что они такие же таинственные и живые как окна и крыши Готорна или
Генри Джеймса.
Это тогда Мейбл Додж вскоре поехала в Америку и это была зима выставки
в Оружейной когда широкая публика впервые получила возможность увидеть
некоторые из этих картин. Это именно там выставлялась Обнаженная
спускающаяся по лестнице Марселя Дюшана.
Это приблизительно в то время познакомились Пикабиа и Гертруда Стайн.
Помню как мы ходили на ужин к Пикабиа и какой приятный это был ужин, полная
жизни и радости Габриэль Пикабиа, живой и черноволосый Пикабиа и похожий на
нормандского крестоносца Марсель Дюшан.
-195-
Я всегда прекрасно понимала то восторженное отношение которое Марсель
Дюшан вызывал в Нью-Йорке когда он поехал туда в первые годы войны. Его брат
только что скончался от ран, другой брат все еще воевал а сам он был
негоден к военной службе. Он был страшно подавлен и поехал в Америку. Его
полюбили. Настолько что в Париже шутили что первое о чем спрашивает
американец приезжая в Париж это а как Марсель. Однажды, сразу после войны
Гертруда Стайн пошла к Браку и зайдя в его мастерскую где как раз сидели
трое молодых американцев, она спросила у Брака, а как Марсель. Трое молодых
американцев подошли к ней и ошеломлено спросили, и вы видели Марселя. Она
засмеялась, и уже привыкнув к неизменности убеждения американцев в том, что
существует только один Марсель, объяснила что жену Брака зовут Марсель и
справлялась она о Марсель Брак.
В те времена Пикабиа и Гертруда Стайн не стали большими друзьями. Он
раздражал ее своей постоянностью и как она говорила вульгарностью
запоздалого переходного возраста Но за последний год как ни странно они
очень полюбили друг друга Ее очень интересуют его рисунки и живопись.
Интерес появился всего год тому назад после его выставки. Теперь она
убеждена что хотя дар у него не вполне живописца у него есть идея которая
имела и будет иметь огромную ценность во все времена Она называет его
Леонардо да Винчи движения. И это действительно так, он понимает и
изобретает все.
-196-
Как только кончилась зима выставки в Оружейной Мейбл Додж вернулась в
Европу и привез-ла с собой некоторое число как называл их Жак-Эмиль Бланш
des jeunes assortis, молодых людей в ассортименте. В него входили Карл Ван
Вехтен, Гоберт Джонс и Джон Рид. Карл Ван Вехтен при- шел на рю де Флерюс не
с ней. Он пришел сам той же весной но позднее. Два других молодых человека
пришли с ней. Я помню вечер когда они все пришли. Пикассо тоже был. Он
критически по- смотрел на Джона Рида и сказал, 1е genre de Braque mais
beaucoup moins rigolo, вроде Брака но гораздо менее занимательный. Еще я
помню как Джон Рид рассказывал мне о своей поездке по Испании. Он
рассказывал что видел там много странного, видел как преследовали ведьм на
улицах Саламанки. Я бывала в Испании по нескольку месяцев а он там был
только несколько недель и его рассказы мне не понравились и не вызывали у
меня доверия.
Роберта Джонса очень поразила внешность Гертруды Стайн. Он сказал что
хотел бы облачить ее в золотые одежды и хотел тут же и там же создать эскиз.
Ее это не заинтересовало.
Среди тех с кем мы познакомились у Джона Лейна в Лондоне были Гордон
Кейн с мужем. Гор-дон Кейн была питомица Вассар Колледжа и она играла на
арфе с которой всегда путешествовала и она всегда переставляла всю мебель в
номере гостиницы даже если останавливалась там только на одну ночь. Она была
высокая, розоволосая и очень красивая. Ее муж был известный английский писа-
-197-
тель-юморист и автор Джона Лейна. Они очень мило развлекали нас в
Лондоне и мы их пригласили на ужин в их первый вечер в Париже. Не знаю что
именно произошло но Элен приготовила очень невкусный ужин. Только дважды за
всю свою долгую службу Элен нас подвела. В этот раз и тогда когда недели две
спустя пришел Карл Ван Вехтен. В тот раз она тоже делала странные вещи, ужин
у нее состоял из нескольких перемен закусок. Но это позже.
За улейном миссис Кейн сказала что она позволила себе пригласить зайти
после ужина свою очень близкую подругу и соученицу по колледжу миссис Ван
Вехтен которая сейчас очень подавлена и очень несчастна и ей очень хочется
чтобы она познакомилась с Гертрудой Стайн потому что Гертруда Стайн
несомненно окажет благотворное влияние на ее жизнь. Гертруда Стайн сказала
что имя Ван Вехтен как будто что-то ей говорит но она не помнит что именно.
У нее плохая память на имена. Пришла миссис Ван Вехтен. Она тоже была очень
высокая, похоже что в Вассаре учится очень много высоких женщин, и тоже
красивая. Миссис Ван Вехтен рассказала о трагедии своего замужества но
Гертруде Стайн было не особенно интересно.
Приблизительно неделю спустя Флоренс Брэдли пригласила нас на второе
представление Sасrе du Printemps*. Русский балет только что дал первое
представление вокруг которого разразился грандиозный скандал. Весь Париж был
охвачен волне-
* Весна священная (фр.)
-198-
нием. Флоренс Брэдли купила три билета в ложу, ложа была на четверых, и
она пригласила нас. Между тем пришло письмо от Мейбл Додж в котором она
рекомендовала Карла Ван Вехтена, молодого нью-йоркского журналиста. Гертруда
Стайн позвала его на ужин в ближайшую субботу.
Мы рано пошли на русский балет, это была ранняя пора величия русского
балета с Нижин-ским на роли великого танцовщика. И он был великим
танцовщиком. Меня безумно волнует танец и я в нем большой знаток я видела
трех очень великих в танце. Мои гении как будто ходят тройками, но я не
виновата просто это так и есть. Те трое действительно великих в танце кого я
видела это Аргентина, Айседора Дункан и Нижинский. Как и те три гения
которых я знала все они разных национальностей.
Нижинский не танцевал в Sасrе du Printemps но поставил танец тем кто
танцевал.
Мы пришли в ложу и заняли три кресла в переднем ряду а кресло сзади
оставалось свободным. Прямо перед нами в партере оказался Гийом Аполлинер.
Он был во фраке и усердно целовал ручки разным важного вида дамам Он был
первый в своей компании кто начал появляться в большом свете надев фрак и
целуя ручки. Было очень забавно и очень приятно видеть как он это делает.
Это был первый раз когда мы видели как он это делает. После войны они все
так делали но он единственный начал до.
Перед самым началом спектакля заняли четвертое кресло в нашей ложе. Мы
обернулись и увидели
-199-
высокого стройного молодого человека, он мог бы быть голландцем,
скандинавом или американцем, и на нем была мягкая вечерняя блуза с
мельчайшими складками по всему переду. Это было очень эффектно, мы даже
никогда и не слышали чтобы носили такие вечерние блузы. В тот вечер когда мы
пришли домой Гертруда Стайн написала портрет неизвестного под названием Один
портрет.
Спектакль начался. Не успел он начаться как поднялось волнение. Такая
знакомая теперь сцена с ее ослепительным разноцветным теперь нисколько не
необычным задником возмутила парижскую публику. Едва заиграла музыка и
начали танцевать как начался свист. Поклонники начали хлопать. Нам было
ничего не слышно, на самом деле, я так вообще и не слышала музыки Sасrе du
Printemps потому что я смотрела ее в тот единственный раз и в течение всего
представления музыки не было слышно буквально ни звука. Танцевали
великолепно и как танцуют мы видели хотя наше внимание постоянно отвлекал
человек в соседней ложе который размахивал тростью, а в конце концов во
время яростной перебранки с энтузиастом в ложе рядом с ним трость опустилась
и сплющила цилиндр который тот демонстративно выставил вперед. Все это было
с безумной яростью.
В ближайший субботний вечер на ужин должен был прийти Карл Ван Вехтен.
Он пришел и он был молодой человек многоскладчатой мягкой вечерней блузы и
блуза была та же самая. Еще он конечно был герой или злодей трагической
повести миссис Ван Вехтен.
-200-
Как я уже говорила второй раз в жизни Элен действительно приготовила
удивительно плохой ужин. По какой-то ей одной известной причине она подала
несколько перемен закусок и в довершение всего сладкий омлет. Гертруда Стайн
стала дразнить Карла Ван Вехтена то и дело обнаруживая близкую
осведомленность о его прошлом. Он был естественно изумлен. Это был
любопытный вечер.
Они с Гертрудой Стайн стали задушевными друзьями.
Он заинтересовал ее творчеством Алана и Ауизу Нортон и побудил их
напечатать в небольшом журнале Роуг который они основали ту первую вещь
Гертруды Стайн которую напечатали в небольшом журнале, Галери Лафайет. В
другом номере этого теперь редкого журнала он напечатал небольшую статью о
Гертруде Стайн. Это он взял эпиграфом к одной из своих первых книг девиз с
бумаги для заметок Гертруды Стайн, роза это роза это роза это роза. Совсем
недавно в нашей деревенской гончарне под горой в Белле сделали для него по
ее заказу несколько тарелок из местной желтой глины и по краю идет роза это
роза это роза а в середине написано Карлу.
В подходящее и в неподходящее время он держал ее имя и ее творчество у
публики на виду. Когда в начале его известности у него спросили какую книгу
он считает самой значительной книгой года он ответил Три жизни Гертруды
Стайн. Никогда не бывало чтобы он дрогнул в своей преданности и своем
упорстве. Он пытался уговорить
-201-
Кнопфа опубликовать Становление американцев и почти уговорил но они
конечно же дрогнули.
Что касается девиза роза это роза это роза, это я нашла его в одной
рукописи Гертруды Стайн и настояла на том чтобы он был на почтовой бумаге,
на скатертях и салфетках и везде где она мне позволит. Я очень довольна тем
что я это сделала.
Все эти годы у Карла Ван Вехтена была прелестная привычка давать
рекомендательные письма тем людям с которыми как ему казалось Гертруде Стайн
будет интересно. Он их давал так разборчиво что все они ей понравились.
Первым и наверное понравившимся ей больше всех был Эвери Хопвуд. Дружба
прекратилась только со смертью Эвери несколько лет тому назад. Когда Эвери
приезжал в Париж он всегда приглашал Гертруду Стайн и меня на ужин. Этот
обычай появился в самом начале знакомства Гертруда Стайн не большая
любительница ресторанов но Эвери она никогда не отказывала Столик всегда был
прелестно убран цветами а меню тщательно продумано. Договариваясь он посылал
нам бесконечные petit bleus, маленькие телеграммы, и нам всегда бывало
очень хорошо. В те давние времена, с волосами льняною цвета и головой
наклоненной немного набок, он был похож на ягненка. В недавние времена
ягненок как говорила ему Гертруда Стайн иногда превращался в волка. В такие
минуты Гертруда Стайн я знаю говорила, милый Эвери. Они очень
симпатизировали друг другу. Незадолго до своей смерти он однажды зашел в
ателье и сказал, мне хотелось бы не только устроить вам про-
-202-
сто ужин, а что-нибудь подарить вам, сказал он, может быть картину.
Гертруда Стайн засмеялась, что вы, Эвери, сказала она, заходите всегда если
хотите просто на чай. И впредь кроме petit bleu в которой он предлагал с ним
поужинать он присылал другую petit bleu что как-нибудь он зайдет просто на
чай. Он однажды зашел и с ним была Гертруда Атертон. Он так мило сказал, я
хочу чтобы две Гертруды которых я так люблю познакомились друг с другом.
Это было совершенно прелестное чаепитие. Все были очарованы и всем было
очень приятно а что касается меня, калифорнийки, Гертруда Атертон была
кумиром моей юности так что я была очень рада
В последний раз мы видели Эвери в его последний приезд в Париж. Он
прислал свою обычную телеграмму приглашая на ужин и когда он за нами зашел
он сказал Гертруде Стайн что пригласил еще несколько человек друзей потому
что хочет кое о чем ее попросить. Понимаете, сказал он, вы никогда не ходили
со мной на Монмартр а мне ужасно хочется чтобы сегодня вы это сделали. Я
знаю Монмартр стал вашим намного раньше чем он стал моим, но пожалуйста. Она
засмеялась и сказала, конечно, Эвери.
После ужина мы действительно сходили с ним на Монмартр. Мы ходили по
многим странным местам и он был так горд и доволен. Из одного места в другое
мы ехали всегда в кабриолете и Эвери Хопвуд с Гертрудой Стайн ехали вместе и
вели долгие разговоры и Эвери должно быть предчувствовал что это в последний
раз потому что он
-203-
никогда прежде не говорил так откровенно и задушевно. В конце концов мы
поехали домой а он вышел и посадил нас в кабриолет и сказал Гертруде Стайн
что это был один из лучших вечеров в его жизни. На следующий день он уехал
на юг а мы за город. Немного погодя Гертруда получила от него открытку, он
писал как он рад был снова ее повидать, и в то же утро в Геральд было
извещение о его смерти.
Году в девятьсот двенадцатом в Париже появился Элвин Аэнгдон Кобурн.
Это был странный американец и он привел странную англичанку, свою приемную
мать. Элвин Лэнгдон Кобурн только что отснял цикл фотографий для Генри
Джеймса Он выпустил альбом фотографий выдающихся мужчин и теперь хотел
сделать парный альбом выдающихся женщин. О Гертруде Стайн ему наверное
сказал Роджер Фрай. Во всяком случае он был первый фотограф который
фотографировал ее как знаменитость и она была приятно польщена Он
действительно сделал и ей подарил несколько очень хороших ее фотографий а
потом он исчез и хотя Гертруда Стайн спрашивает о нем, никто ничего не
знает.
Вот мы и подошли к самой весне девятьсот четырнадцатого. Той самой
зимой в доме бывала в числе прочих младшая падчерица Бернарда Берензона Она
приходила со своей юной подругой Хоуп. Хоуп сказала что когда мы летом
поедем в Англию нам непременно нужно съездить в Кембридж и погостить у ее
родных.
Зимой брат Гертруды Стайн решил что он переедет жить во Флоренцию. Они
поделили карти-
-204-
ны которые они купили вместе. У Гертруды Стайн остались Сезанн и
Пикассо а у ее брата Матисс за исключением оригинала Fетте dи Сhареаи и
Ренуар.
Мы надумали построить между мастерской и маленьким флигелем небольшой
переход а это означало что придется пробить дверь и штукатурить стену так
что мы решили покрасить ателье, переклеить обои в доме и провести
электричество. Мы стали всем этим заниматься. В конце июня когда еще шел
ремонт и дом был в разобранном состоянии Гертруда Стайн получила письмо от
Джона Лейна в котором говорилось что он будет в Париже завтра и к ней
придет. Он привез с собой сигнальный экземпляр Взрыва Уиндхема Льюиса и
подарил его Гертруде Стайн. И стал спрашивать что она думает об этой книге и
не напишет ли она о ней. Она сказала что не знает.
Джон Лейн тогда спросил не приедет ли она в июле в Лондон потому что он
почти решил переиздать Три жизни и не привезет ли она еще какую-нибудь
рукопись. Она ответила что привезет и предложила сборник всех портретов
которые она к тому времени написала О Становлении американцев речь не
заходила потому что книга была длинная. На этом было решено и Лейн уехал.
В те времена довольно грустно пожив на рю де Шелшер Пикассо собрался
переехать еще немного дальше в Монруж. Это не были для него несчастливые
времена но после монмартрской поры никто больше не слышал его высокий
испанский похожий на ржание смех. Его друзья, и очень мно-
-205-
гие, уехали вслед за ним на Монпарнас но это было уже не то. Они с
Браком были уже не так близки а из старых друзей он часто виделся только с
Гийомом Аполлинером и Гертрудой Стайн. Это в том году он начал писать
эмалевыми красками а не теми которыми обычно пишут художники. Как раз на
днях он долго говорил об эмалевых красках. Это, серьезно сказал он, la sante
de couleurs, иначе говоря основа здоровья красок. В те времена он писал
эмалевыми красками картины и все остальное как он пишет до сих пор и как от
мала до велика пишут столь многие его подражатели.
В это же время он начал делать конструкции из бумаги, из жести и всего
такого, конструкции которые потом дали ему возможность сделать те самые
знаменитые декорации для Парада.
Мы часто ездили с нею за город смотреть дом. Наконец она переехала. Мы
поехали с ней и провели у нее целый день. Милдред была не несчастна но она
была очень грустна. Занавески повешены, книги расставлены, всюду чисто и что
же мне теперь делать, спросила Милдред. Я рассказала ей что когда я была
маленькая моя мать говорила что я всегда спрашивала что же мне теперь делать
или в крайнем случае для разнообразия что же мне делать теперь. Милдред
сказала что самое печальное это что мы уезжаем в Лондон и она нас не увидит
все лето. Мы заверили ее что едем только на месяц, у нас даже есть обратные
билеты, и как только вернемся тут же ее навестим. Так или иначе она была
рада что у Гертруды Стайн наконец появился издатель который будет издавать
ее кни-
-206-
ги. Только осторожнее с Джоном Лейном, он хитрый, сказала она, когда мы
поцеловали ее и уехали.
Элен уходила с рю де Флерюс потому что ее муж, которого недавно
повысили по службе и назначили мастером у него в мастерской, требовал чтобы
она не работала на чужих а сидела дома.
Короче говоря весной и ранним летом девятьсот четырнадцатого года
прежняя жизнь кончилась.
-207-
Американцы перед войной жившие в Европе на самом деле никогда не верили
что будет война. Гертруда
Стайн всегда рассказывает как сынишка дворника играя во дворе регулярно
каждые два года убеждал ее что папа идет на войну. Однажды какие-то ее
родственники, они жили в Париже, держали в прислугах девушку из деревни.
Тогда шла русско-японская война и они все обсуждали последние известия. В
ужасе она уронила блюдо и закричала, что на пороге немцы.
Отец Уильяма Кука был из Айовы и летом девятьсот четырнадцатого в свои
семьдесят лет он впервые путешествовал по Европе. Когда их настигла война он
отказывался этому верить и говорил что ссоры между домочадцами, короче
говоря гражданская война, это он еще понимает, но чтобы настоящая война со
своими соседями нет.
В 1913 и 1914 Гертруда Стайн с большим интересом читала газеты. Она
редко читала французские газеты, она никогда не читала по-французски, а
всегда читала Геральд. Той зимой она читала и Дэйли Мэйл. Она любила читать
о суфражистках и кампании лорда Робертса за введение обязательной воинской
повинности в Англии. Лорд Робертс был любимый герой ее молодости. Она часто
перечитывала книгу лорда Робертса Сорок один год в Индии и видела его
самого когда на студенческих каникулах они с братом наблюдали коронацион-
-211-
ную процессию Эдуарда Седьмого. Она читала Дэйли Мэйл хотя, как она
говорила, Ирландия ее не интересовала
Мы поехали в Англию пятого июля и как и намечалось воскресным днем
поехали за город к Джону Аейну. Там были разные люди и говорили о многом но
были разговоры о войне. Один человек, кто-то сказал мне что он сотрудник
одной из крупных лондонских ежедневных газет, сокрушался что он не сможет
как у него было заведено есть в августе фиги в Провансе. Почему, спросили
его. Потому что будет война, ответил он. Кто-то еще, Уолпоп или кажется его
брат, сказал что нет никакой надежды победить Германию потому что у нее
очень отлаженная система, все железнодорожные пути пронумерованы в
соответствии с паровозами и стрелками. Но, сказал любитель фиг, все это
прекрасно пока пути со своими трассами и стрелками идут по Германии, но в
наступательной войне они выйдут за немецкие границы и тогда, я вам обещаю,
будет большая путаница с номерами.
Это все что я отчетливо помню о том воскресном июльском дне. Когда мы
собрались уезжать, Джон Лейн сказал Гертруде Стайн что его неделю не будет в
городе и назначил ей рандеву в редакции на конец июля чтобы подписать
договор на Три жизни. При нынешнем положении дел, сказал он, по-моему лучше
начать с этой книги чем с чего-то еще более нового. Я в этой книге уверен.
Миссис Лейн в большом восторге и читатели тоже.
В нашем распоряжении было еще десять дней и мы решили воспользоваться
приглашением мис-
-212-
сис Мерлиз, матери Хоуп, съездить на несколько дней в Кембридж.
Съездили мы совершенно замечательно. Гостям в этом доме было очень удобно.
Гертруде Стайн там нравилось, она могла сколько угодно сидеть в своей
комнате или в саду и почти не слышать разговоров. Кормили отменно,
шотландскими блюдами, вкусной и свежей пищей, и было очень забавно
знакомиться со всеми кембриджскими светилами. Нас водили по всем садам и
часто приглашали во многие дома Погода стояла прекрасная, кругом розы,
народные танцы в исполнении студентов и девушек и вообще восхитительно. Нас
пригласили на ленч в Ньюнэм, мисс Джейн Харрисон, преподавательница
обожаемая Хоуп Мерлиз, очень хотела познакомиться с Гертрудой Стайн. Мы
сидели на скамьях со всей профессурой и благоговели. Беседа впрочем
завязалась не особенно увлекательная. Мисс Харрисон и Гертруда Стайн не
особенно заинтересовались друг другом.
Мы были много наслышаны о докторе Уайтхеде и миссис Уайтхед. Они больше
не жили в Кембридже. Год назад доктор Уайтхед уехал из Кембриджа потому что
стал преподавать в Лондонском университете. Они должны были вскоре приехать
в Кембридж и прийти на ужин к Мерлизам. Они пришли и я встретила своего
третьего гения.
Был очень приятный ужин. Я сидела рядом с Хаусманом, кембриджским
поэтом, и мы говорили о рыбах и Дэвиде Старре Джордане но все это время мне
было гораздо интереснее наблюдать за доктором Уайтхедом. Потом мы вышли в
сад и он
-213-
пришел и сел рядом со мной и мы говорили о небе в Кембридже.
Гертруда Стайн, доктор Уайтхед и миссис Уайтхед все очень
заинтересовались друг другом. Миссис Уайтхед пригласила нас отужинать у них
в Лондоне и потом поехать с ними на субботу и воскресенье, последние субботу
и воскресенье в июле, в их загородный дом в Локридже, недалеко от равнины
Солсбери. Мы с удовольствием согласились.
Мы вернулись в Лондон и там чудесно провели время. Мы заказывали
удобные стулья и удобную кушетку с ситцевой обивкой взамен той итальянской
мебели которую увез с собой брат Гертруды Стайн. Это заняло страшно много
времени. Мы должны были примериваться к стульям и к кушетке и выбрать такой
ситец который подходил бы к картинам и со всем этим успешно справились. Эти
самые стулья и эту кушетку, а они такие удобные, несмотря на войну доставили
нам домой на рю де Флерюс одним январским днем девятьсот пятнадцатого года и
мы их встретили восторженными приветствиями. Тогда нужны были такие удобства
и утешения для тела и для души. Мы отужинали у Уайтхедов которые еще больше
нас очаровали и мы очаровали их еще больше и они были настолько любезны что
нам об этом сказали. У Гертруды Стайн состоялась назначенная встреча с
Джоном Лейном в Бодли Хэд. Они очень долго беседовали, на этот раз так долго
что я исчерпала все возможности по части изучения витрин на довольно большом
расстоянии вокруг, но в конце
-214-
концов Гертруда Стайн вышла с договором. Это была обнадеживающая
кульминация.
Потом мы сели в поезд и поехали в Локридж к Уайтхедам на субботу и
воскресенье. Мы путешествовали с саквояжем для воскресных прогулок, мы
очень гордились нашим саквояжем для воскресных прогулок, мы пользовались им
во время нашей первой поездки и теперь активно пользовались им опять. Как
мне потом сказала одна приятельница, вас приглашали на субботу и воскресенье
а вы остались на полтора месяца. Так оно и было.
Мы застали у них полный дом гостей, кто-то из Кембриджа, какие-то
молодые люди, младший сын Уайтхедов Эрик, пятнадцатилетний но очень высокий
и похожий на цветок, и только что вернувшаяся из Ньюнэма дочь Джесси. Едва
ли кто-то всерьез думал о войне потому что все обсуждали предстоящую Джесси
Уайтхед поездку в Финляндию. Джесси всегда заводила друзей из неожиданных
стран, у нее была страсть к географии и страсть к славе Британской империи.
У нее была приятельница-финка, которая пригласила ее на лето к своим родным
в Финляндию и пообещала Джесси возможное восстание против России. Миссис
Уайтхед раздумывала но уже почти согласилась. Еще был старший сын Норт
которого тогда не было.
Потом, насколько я помню, вдруг начались совещания по предотвращению
войны, лорд Грей и русский министр иностранных дел. А потом не успели все
опомниться ультиматум Франции. Мы с Гертрудой Стайн были совершенно
подавлены и
-215-
Эвелина Уайтхед тоже, в ней была французская кровь, она воспитывалась
во Франции и испытывала к Франции большие симпатии. Потом наступило время
вторжения в Бельгию и я так и слышу как доктор Уайтхед ровным голосом читает
газеты а потом все говорят о разрушении Лувена и о том что они должны помочь
маленькой славной Бельгии. А где Лувен, спросила меня безнадежно несчастная
Гертруда Стайн. Вы разве не знаете, спросила я. Не знаю и знать не хочу,
ответила она, но где он.
Наши суббота-воскресенье кончились и мы сказали миссис Уайтхед что нам
надо ехать. Но ведь сейчас нельзя вернуться в Париж, сказала она. В Париж
нельзя, ответили мы, но мы можем пожить в Лондоне. Ну нет, сказала она, до
тех пор пока вы не сможете вернуться в Париж вы должны остаться у нас. Она
была очень добра а мы были очень несчастны, они нравились нам а мы нравились
им и мы согласились. И затем к нашему бесконечному облегчению Англия
вступила в войну.
Нам нужно было съездить в Лондон забрать наши чемоданы, дать телеграммы
в Америку и снять деньги в банке, а миссис Уайтхед хотела съездить в Лондон
чтобы узнать могут ли они с дочерью как-то помочь бельгийцам. Я очень хорошо
помню эту поездку. Хотя поезд не был переполнен многолюдье бросалось в глаза
и все станции даже сельские полустанки кишели людьми и не то чтобы
встревоженными просто их было слишком много. На станции где мы
пересаживались мы встретили леди
-216-
Эстли, приятельницу Миры Эджерли с которой мы познакомились в Париже.
Как ваши дела, спросила она громким радостным голосом, я еду в Лондон
прощаться с сыном. Он уезжает, вежливо спросили мы. Да да, ответила она, он
же в гвардии и вечером он уезжает во Францию.
В Лондоне все было сложно. У Гертруды Стайн был аккредитив во
французском банке а у меня к счастью на очень небольшую сумму в
калифорнийском. Я говорю к счастью на небольшую потому что банки большие
суммы не выдавали но мой аккредитив был на такую маленькую сумму и настолько
уже почти выбранную что мне безо всяких колебаний выдали весь остаток.
Гертруда Стайн телеграфировала двоюродному брату в Балтимор чтобы он
прислал ей денег, мы забрали наши чемоданы, встретились с Эвелиной Уайтхед в
поезде и вместе с нею уехали обратно в Локридж. Мы облегченно вздохнули
когда вернулись. Мы оценили ее любезность потому что жить в гостинице в
Лондоне в такое время было бы совершенно ужасно.
Потом дни шли один за другим и трудно вспомнить что же происходило.
Норт Уайтхед был в отъезде и миссис Уайтхед страшно волновалась что он
очертя голову запишется в добровольцы. Она должна была с ним увидеться. Ему
телеграфировали чтобы он немедленно приезжал. Он приехал. Она оказалась
совершенно права. Он сразу же пошел в ближайший призывной пункт записываться
добровольцем но к счастью перед ним стояла такая большая очередь что он не
успел пройти и
-217-
пункт закрылся. Она сразу же поехала в Лондон чтобы встретиться с
Китченером. Брат доктора Уайтхеда был епископом в Индии и в молодости был
очень близко знаком с Китченером. Миссис Уайтхед заручилась его
рекомендацией и Норту присвоили офицерский чин. Она вернулась домой
успокоенная. Норт отправлялся на фронт через три дня но за это время он
должен был научиться водить машину. Три дня прошли очень быстро и Норт
уехал. Он уехал прямо во Францию и почти безо всякой амуниции. А потом
наступило время ожидания.
Эвелина Уайтхед была очень занята потому что организовывала работу для
фронта и всем помогала а я по возможности помогала ей. Гертруда Стайн и
доктор Уайтхед без конца гуляли по окрестностям Они говорили о философии и
истории, и именно тогда Гертруда Стайн поняла до какой степени это доктору
Уайтхеду а не Расселу принадлежат все идеи их великой книги. Добрейший и
просто самый щедрый из людей, доктор Уайтхед никогда ни на что не
претендовал и бесконечно восхищался всяким блестящим человеком а Рассел
несомненно был блестящим человеком.
Гертруда Стайн возвращалась и рассказывала мне об этих прогулках и о
том что край с далеко видными до сих пор зелеными тропами древних британцев
и тройными радугами этого странного лета все такой же как во времена Чосера.
Они, доктор Уайтхед и Гертруда Стайн, вели долгие разговоры с лесничим и
кротоловом. Кротолов сказал, сэр, но ведь из всех войн которые вела Англия
она
-218-
выходила только победительницей. Доктор Уайтхед оглянулся на Гертруду
Стайн с мягкой улыбкой. По-моему мы можем так говорить, сказал он. Когда
лесничему показалось что доктор Уайтхед пал духом, он сказал ему, доктор
Уайтхед, но ведь Англия великая держава, не так ли. Надеюсь что да, я
надеюсь что да, тихо ответил он.
Немцы подходили все ближе и ближе к Парижу. Однажды доктор Уайтхед
спросил у Гертруды Стайн, они как раз шли небольшим заросшим лесом и он ей
помогал, у вас с собой экземпляры ваших сочинений или они все в Париже. Все
в Париже, сказала она. Мне не хотелось спрашивать, сказал доктор Уайтхед, но
я беспокоюсь.
Немцы подходили все ближе и ближе к Парижу и в последний день Гертруда
Стайн не могла выйти из своей комнаты, она сидела и скорбела. Она любила
Париж, она не думала ни о рукописях ни о картинах, она думала только о
Париже и она была безутешна. Я поднялась к ней в комнату, все хорошо,
крикнула я, Париж спасен, немцы отступают. Она отвернулась и сказала, только
не надо так со мной говорить. Но это правда, сказала я, это правда. А потом
мы плакали вместе.
Первое описание битвы на Марне из полученных кем бы то ни было среди
наших знакомых в Англии пришло в письме Гертруде Стайн от Милдред Олдрич.
Это было в сущности первое письмо ее книги На взгорье у Марны. Мы были
ужасно рады его получить и узнать что Милдред ничего не грозит и как все это
было. Оно ходило по рукам и его прочли все в округе.
-219-
Потом когда мы вернулись в Париж мы услышали два других описания битвы
на Марне. Моя давняя школьная подруга по Калифорнии Нелли Джэкот жила в
Булонь-на-Сене и я очень о ней беспокоилась. Я ей телеграфировала и она
телеграфировала мне в ответ в своем духе, Nullement en danger ne t'inquiete
pas, опасности нет, не беспокойся. Это Нелли когда-то называла Пикассо
красавцем-сапожником и говорила о Фернанде, она ничего себе но я не понимаю
что ты так ради нее себя утруждаешь. И это Нелли вогнала Матисса в краску
устроив ему перекрестный допрос о разных способах восприятия мадам Матисс,
какой она видится ему как жена и какой она видится ему когда он пишет с нее
картину и как он переключается с одного на другое. И это Нелли рассказала
историю которую любила вспоминать Гертруда Стайн, о том как молодой человек
ей однажды сказал, я люблю вас Нелли, вас ведь Нелли зовут, не так ли. И это
Нелли, когда мы вернулись из Англии и сказали что все были очень любезны,
сказала, знаю я эту любезность.
Нелли описала нам битву на Марне. Знаете, сказала она, раз в неделю я
всегда езжу в город за покупками и всегда беру с собой служанку. Туда мы
едем на трамвае потому что в Булонь такси трудно взять а обратно едем на
такси. Ну мы приехали как обычно и ничего не заметили а потом уже сделав
покупки и выпив чаю встали на углу ловить такси. Мы остановили несколько
машин и услышав куда нам надо они ехали дальше. Я знаю что иногда таксисты
не любят ездить в Булонь,
-220-
поэтому я сказала Мари, скажите что если они поедут мы дадим хорошие
чаевые. Ну и она остановила еще одно такси с пожилым водителем и я ему
сказала, я вам дам очень хорошие чаевые если вы отвезете нас в Булонь. О,
ответил он приложив палец к носу, к моему великому сожалению, мадам, это
невозможно, ни одно такси сегодня не может выезжать за пределы города.
Почему, спросила я. Он в ответ подмигнул и уехал. Нам пришлось ехать обратно
в Булонь на трамвае. Конечно, потом, когда мы узнали о Гальени и такси мы
поняли, сказала Нелли и прибавила, что это и была битва на Марне.
Еще одно описание битвы на Марне мы услышали от Элфи Моурера когда мы
только-только вернулись в Париж. Я сидел, сказал Элфи, в кафе и Париж был
бледный, вы знаете какой, сказал Элфи, он был как бледный абсент. Ну я сидел
и потом я увидел как много лошадей везут много больших платформ и они
медленно ехали мимо и там еще сидели солдаты а на ящиках было написано
Banque de France*. Это вот так просто, сказал Элфи, увозили золото перед
битвой на Марне.
За эти тягостные дни ожидания в Англии конечно многое произошло. У
Уайтхедов все время толпилось очень много народу и конечно у них постоянно
что-нибудь обсуждали. Сначала был Литтон Стрэтчи. Он жил в маленьком домике
неподалеку от Локриджа.
Однажды вечером он пришел к миссис Уайт-
* Французский банк (фр.).
-221-
хед. Это был худой желтолицый человек с шелковистой бородой и слабым
высоким голосом. Мы познакомились с ним годом раньше когда нас пригласили на
встречу с Джорджем Муром к мисс Этель Сэндс. Гертруда Стайн и Джордж Мур,
который был похож на очень благополучного младенца с коробки Мэллонз Фуд,
не заинтересовали друг друга. Литтон Стрэтчи и я говорили о Пикассо и
русском балете.
В тот вечер он пришел и они с миссис Уайтхед обсуждали возможности
спасения сестры Литтона Стрэтчи которая без вести пропала в Германии. Она
предложила ему обратиться к одному человеку который мог ему помочь. Но,
слабым голосом сказал Литтон Стрэтчи, я же с ним не знаком. Да, сказала
миссис Уайтхед, но вы можете ему написать и попросить о встрече. Не могу,
слабым голосом ответил Литтон Стрэтчи, раз я с ним не знаком.
Еще на той неделе был Бертран Рассел. Он приехал в Локридж в тот самый
день когда Норт Уайтхед ушел на фронт. Он был пацифист и спорщик и хотя они
с Уайтхедами были очень старыми друзьями доктор Уайтхед и миссис Уайтхед не
считали для себя возможным слушать о его убеждениях именно в этот день. Он
пришел, и чтобы все отвлеклись от животрепещущего вопроса войны и мира,
Гертруда Стайн затронула тему образования. Рассел увлекся и объяснил в чем
заключаются все недостатки американской системы образования, особенно в
пренебрежении греческим. Гертруда Стайн возразила что конечно Англии потому
что
-222-
это остров нужна Греция которая была или может быть была островом. В
любом случае греческая культура в сущности была островной, тогда как Америке
в сущности нужна культура континента а это неизбежно римская культура. От
таких доводов господин Рассел засуетился, он стал очень красноречив. Тогда
Гертруда Стайн сделалась очень серьезной и произнесла длинную речь о том что
для англичан греческий представляет ценность не только потому что это
остров, а для американцев греческая культура не представляет ценности так
как психология американцев отлична от психологии англичан. Она очень
красноречиво говорила об отвлеченности и абстрактности американского
характера приводя в пример автомобили вперемешку с Эмерсоном, и все это
действительно подтверждало что им не нужен греческий, а Рассел суетился все
больше и больше и всем было чем заняться пока все не легли спать.
Тогда постоянно что-нибудь обсуждали. Епископ, брат доктора Уайтхеда с
семейством пришли на обед. Они все непрерывно говорили о том как Англия
вступила в войну чтобы спасти Бельгию.
Наконец мои нервы не выдержали и я выпалила, почему вы так говорите,
почему вы не скажете что сражаетесь за Англию, я не считаю постыдным
сражаться за свою страну.
Миссис Бишоп, жена епископа, в тот раз вела себя очень странно. Она
серьезным тоном сказала Гертруде Стайн, мисс Стайн насколько я понимаю вы
влиятельный человек в Париже. Полагаю что было бы очень уместно если бы
такое нейтральное
-223-
лицо как вы обратилось к французскому правительству с предложением
отдать нам Пондишери* Нам оно очень бы пригодилось. Гертруда Стайн вежливо
ответила что к ее величайшему сожалению то влияние которое она имеет она
имеет среди художников и писателей но не среди политиков. Но это, сказала
миссис Бишоп, совершенно неважно. По-моему вам нужно предложить
французскому правительству отдать нам Пондишери. После обеда Гертруда Стайн
вполголоса спросила меня, где это чертово Пондишери.
Гертруда Стайн всегда ужасно злилась когда англичане говорили о
немецкой организованности. Она всегда утверждала что у немцев нет
организованности, у них есть методичность но не организованность. Неужели вы
не понимаете этой разницы, сердито говорила она, любые два американца любые
двадцать американцев любые миллионы американцев могут организоваться и
что-то сделать а немцы не могут организоваться и что-то сделать, они могут
сформулировать метод и подчиниться этому методу но это же не
организованность. Немцы, утверждала она, несовременны, это отсталый народ
который сделал методом то что мы понимаем под организованностью, разве вы не
видите. Значит они не могут победить в этой войне потому что они
несовременны.
Еще нас безумно раздражали заявления англичан о том что американские
немцы настроят Америку против союзников. Не выдумывайте глупостей, говорила
Гертруда Стайн всем и каждому, если вы не понимаете что симпатии Америки
отданы в первую очередь Франции и Англии и никогда не
-224-
могли бы быть отданы такой средневековой стране как Германия, значит вы
не понимаете Америку. Мы республиканцы, с нажимом говорила она, полностью
совершенно и до конца республика а республика может быть во всем схожа с
Францией и очень во многом схожа с Англией но не может иметь ничего общего
с Германией какова бы там ни была форма правления. Как часто и тогда и потом
я слышала как она объясняет что американцы это республиканцы живущие в
республике которая настолько республика что ничем иным она бы и быть не
могла
Тянулось долгое лето. Места были дивные и была дивная погода и доктор
Уайтхед и Гертруда Стайн без конца бродили по окрестностям и обо всем
разговаривали.
Время от времени мы ездили в Лондон. Мы регулярно заходили в приемную
Кукса чтобы узнать когда мы сможем вернуться в Париж и нам постоянно
отвечали пока нет. Гертруда Стайн встретилась с Джоном Лейном. Он был ужасно
удручен. Он был страстный патриот. Он сказал что сейчас он конечно только и
делает что издает мобилизационные предписания но скоро очень скоро все будет
по-другому или может быть война кончится.
Двоюродный брат Гертруды Стайн и мой отец послали нам деньги
американским крейсером Теннесси. Мы пошли их получать. Нас обеих взвесили и
измерили рост а потом нам выдали деньги. Откуда же, спрашивали мы друг
друга, двоюродный брат который не видел вас десять лет и отец кото-
-225-
рый не видел меня шесть лет могли знать наш рост и наш вес. Это
оставалось загадкой. Четыре; года спустя двоюродный брат Гертруды Стайн
приехал в Париж и первое о чем она ею спросила это, Джулиан, как ты узнал
мой рост и вес когда посылал мне деньги с Теннесси. А я знал, спросил он.
Ну, сказала она, во всяком случае у них было записано что ты знаешь. Я
конечно не помню, сказал он, но если бы я занимался этим сейчас то я бы
естественно запросил в Вашингтоне копии ваших паспортов и вероятно то же
самое сделал тогда И таким образом тайна раскрылась.
Чтобы вернуться в Париж нам пришлось получить временные паспорта в
американском посольстве. Документов у нас не было, тогда ни у кого не было
документов. У Гертруды Стайн вообще-то был как это называли в Париже рарiег
dе matriculation* в котором было указано что она американка и живет во
Франции.
В посольстве толпилось очень много граждан не очень американского вида
в ожидании своей очереди. Наконец нас принял очень усталый с виду молодой
американец. Гертруда Стайн что-то сказала о количестве ожидавших граждан не
очень американского вида. Молодой американец вздохнул. С ними проще, сказал
он, потому что у них есть документы, только у урожденного американца нет
документов. Ну а что же вы с ними делаете, спросила Гертруда Стайн. Мы
делаем предположения, ответил он, и надеюсь что правильные. А теперь, сказал
он, при-
*Вид на жительство (фр.)
-226-
сягните пожалуйста О Господи, сказал он, я так часто произношу присягу
что я ее забыл.
К пятнадцатому октября Кукс сказал что можно вернуться в Париж. Миссис
Уайтхед собиралась поехать с нами. Норт, ее сын, отправился на фронт без
шинели, она раздобыла шинель и боялась что он получит ее очень нескоро если
ее послать обычным путем. Она договорилась что съездит в Париж и или сама
передаст ему шинель или найдет какого-нибудь человека, который отвезет ее
прямо сыну. Она получила документы из Министерства обороны и от Китченера и
мы отправились в путь.
Я почти не помню наш отъезд из Лондона, я даже не помню было ли светло
но наверное было потому что было светло когда мы плыли на пароме. Паром был
переполнен. Было очень много бельгийских солдат и офицеров бежавших из
Антверпена, у них у всех были усталые глаза Тогда мы впервые увидели эти
усталые но настороженные глаза солдат. В конце концов мы нашли место для
миссис Уайтхед которой накануне нездоровилось и вскоре были уже во Франции.
У миссис Уайтхед были такие всесильные документы что задержек нигде не было
и скоро мы уже сели в поезд а около десяти вечера были уже в Париже. Мы
взяли такси и проехали по нетронутому и прекрасному Парижу на рю де Флерюс.
Мы снова были дома.
Все кто казалось были так далеко пришли повидаться. Элфи Моурер
рассказывал как он был в своей любимой деревне на Марне, он всегда ловил
рыбу на Марне, и вот идет мобилизационный поезд и вот идут немцы и он очень
перепугался и
-227-
стал пытаться как-то уехать и в конце концов после невероятных усилий
ему это удалось и он вернулся в Париж. Когда он уходил Гертруда Стайн
проводила его до дверей и пришла улыбаясь. Миссис Уайтхед с некоторым
смущением сказала, Гертруда, вы всегда так тепло отзывались об Элфи Моурере
но как вам может нравиться человек который проявляет не только эгоизм но и
трусость да еще в такое время. Он думал только о собственном спасении а он
же в конце концов лицо нейтральное. Гертруда Стайн расхохоталась. Глупая вы
женщина, сказала она, неужели вы не поняли, конечно Элфи был с девушкой и он
до смерти перепугался что она попадет в руки к немцам.
Как раз тогда в Париже было не очень много народу и нам это нравилось и
мы бродили по Парижу и нам было так хорошо; удивительно хорошо. Вскоре
миссис Уайтхед нашла способ передать сыну шинель и уехала обратно в Англию
а мы стали готовиться к зиме.
Гертруда Стайн отослала свои рукописи на хранение друзьям в Нью-Йорк.
Мы надеялись что опасность миновала но все-таки казалось что благоразумнее
это сделать и впереди еще были цеппелины. В Лондоне перед нашим отъездом
ночью устраивалось полное затемнение. В Париже как обычно улицы освещались
до января.
Как это получилось я совершенно не помню но как-то через Карла Ван
Ветхена и какое-то отношение к этому имели Нортоны, но во всяком случае
пришло письмо от Дональда Эванса с предложением издать три вещи небольшой
книгой и
-228-
не подумает ли Гертруда Стайн над заглавием. Две из этих трех вещей
были написаны во время нашей первой поездки в Испанию а Еда, комнаты и так
далее сразу по возвращении. С них, как говорила Гертруда Стайн, началось
смешение внутреннего с внешним. Прежде ее увлекало серьезное и внутреннее, в
этих этюдах она стала описывать внутреннее каким оно видится извне. Она
ужасно обрадовалась что будут издавать эти три вещи и она сразу же
согласилась и придумала заглавие Нежные пуговицы. Дональд Эванс назвал свою
фирму Клер Мари и он прислал договор который ничем не отличался от любого
другого договора. Мы были совершенно уверены что есть какая-то Клер Мари но
ее очевидно не было. Издание вышло тиражом не помню в семьсот пятьдесят или
в тысячу экземпляров но так или иначе получилась совершенно очаровательная
небольшая книжечка и Гертруде Стайн это было безумно приятно, а книга, как
всем известно, оказала огромное влияние на всех молодых писателей и побудила
фельетонистов-газетчиков всей страны начать долгую кампанию осмеяния. Должна
сказать что когда фельетонисты действительно пишут смешно, а они довольно
часто именно так и пишут, Гертруда Стайн усмехается и читает мне вслух.
Между тем продолжалась мрачная зима четырнадцатого-пятнадцатого года.
Однажды вечером, думаю что наверное был конец января, я легла спать по
своему тогдашнему и теперешнему обыкновению очень рано а Гертруда Стайн по
своему обыкновению работала внизу в мастерской. Вдруг я ус-
-229-
лышала что она тихо меня зовет. Что такое, спросила я. Ничего, ответила
она, но может быть вы наденете что-нибудь теплое и спуститесь вниз, так мне
кажется наверное будет лучше. Что такое, спросила я, революция. Все
консьержи и жены консьержей всегда говорили о революции. Французы так
привыкли к революциям, революций у них было так много что чуть что первым
делом они думают и говорят, революция. Гертруда Стайн однажды довольно
раздраженно ответила каким-то молодым солдатам когда те что-то сказали про
революцию, глупые, у вас была одна превосходная революция и несколько
революций похуже; умному народу по-моему глупо все время желать повторения.
Они очень смутились и сказали, bien sure, mademoiselle, иными словами,
конечно вы правы.
Ну и я когда она меня разбудила тоже спросила, что, революция и пришли
солдаты. Нет, ответила она, не совсем. А что такое, раздраженно спросила я.
Не знаю, сказала она, но только была тревога. Все-таки лучше спуститесь. Я
стала включать свет. Нет, сказала она, лучше не надо. Дайте руку и я помогу
вам спуститься и можете спать внизу на кушетке. Я спустилась. Было очень
темно. Я села на кушетку а потом я сказала, совершенно не понимаю что со
мной но у меня дрожат колени. Гертруда Стайн рассмеялась, подождите минуту,
я вам принесу одеяло, сказала она Не уходите, сказала я. Она все-таки нашла
чем меня укрыть а потом раздался громкий залп а потом еще несколько.
Послышался негромкий шум а потом завыла сирена на улице и тогда мы поняли
что тревога кончилась.
-230-
Мы зажгли свет и легли спать.
Должна сказать что я бы не поверила что колени как пишут в стихах и
прозе могут правда колотиться если бы этого не случилось со мной. Когда была
следующая воздушная тревога а она была вскоре после первой, у нас ужинали
Ева и Пикассо. Тогда мы уже поняли что двухэтажное здание ателье защищает не
больше чем маленький флигель под крышей которого мы спали и консьержка
предложила нам пойти в ее комнату где по крайней мере над нами будет еще
шесть этажей. Еве тогда нездоровилось и она боялась и мы все пошли в комнату
консьержки. Пошла даже Жанна Пуль прислуга-бретонка которая сменила Элен.
Жанне быстро надоело соблюдать предосторожности и несмотря на все
увещевания она вернулась в кухню, против всех правил зажгла свет и стала
мыть посуду. Нам тоже быстро надоело в закутке консьержки и мы вернулись в
ателье. Мы поставили свечу под стол чтобы свет был не такой яркий, мы с Евой
пытались спать а Пикассо и Гертруда Стайн проговорили до двух ночи пока не
раздался отбой тревоги и они не пошли домой.
Пикассо и Ева в то время жили на рю Шелшер в довольно роскошной
однокомнатной квартире с окнами на кладбище. Жизнь от этого не делалась
веселей. Разнообразие вносили только письма от Гийома который пытался стать
артиллеристом и постоянно сваливался с лошади. Близко дружили они в то время
только еще с одним русским которого они прозвали г. Апостроф и его
сестрой-баронессой. Они скупили всего Руссо который был
-231-
в ателье Руссо когда он умер. Они жили на бульваре Распай, над деревом
Виктора Гюго и они были небезынтересны. С их помощью Пикассо выучил русские
буквы и стал иногда изображать их на своих картинах.
Той зимой было мало веселого. Появлялись и исчезали старые и новые
знакомые. Приехала Эллен Ламотт, она вела себя очень героически но боялась
выстрелов. Она хотела поехать в Сербию и Эмили Чадбурн хотела отправиться с
ней но они не поехали.
Гертруда Стайн написала об этом событии небольшую новеллу. Эллен Ламотт
собирала военные сувениры для своего родственника Дюпона де Немура. Истории
откуда они взялись были забавные. Тогда все приносили сувениры, стальные
наконечники которые пробивали лошадиные головы, обломки снарядов,
чернильницы сделанные из обломков снарядов, каски, кто-то даже предложил нам
обломок цеппелина или аэроплана, чего именно я не помню, но мы отказались.
Это была странная зима и происходило все и ничего. Как раз тогда, если я
правильно помню, кто-то, по-моему Аполлинер в увольнении, устроил концерт и
чтение стихов Блэза Сандрара. Это тогда я впервые услышала имя и впервые
услышала музыку Эрика Сати. Помню что все это происходило в чьей-то
мастерской и собиралось очень много народу. И тогда же началась дружба между
Гертрудой Стайн и Хуаном Грисом. Он жил на рю де Равиньян в той самой
мастерской где заперли Сальмона когда он изжевал мое желтое фантази.
-232-
Мы там бывали довольно часто. Дела у Хуана шли плохо, картины не
покупали а французские художники не бедствовали потому что они были на
фронте а их жены или любовницы если они сколько-то лет прожили вместе
получали пособия. Был один неудачный случай, Эрбен, симпатичный маленький
человечек но такой коротышка что его не взяли в армию. Он жалобно говорил
что ранец который ему полагалось носить весил столько же сколько он сам, но
это было ему не под силу, он не мог. Его вернули домой признав негодным к
службе и он приехал полумертвый от истощения. Не знаю кто нам о нем
рассказал, он был одним из первых простых честных кубистов. К счастью
Гертруде Стайн удалось заинтересовать Роджера Фрая. Роджер Фрай вывез его
самого и его живопись в Англию где у него появилось и думаю что еще осталось
громкое имя.
С Хуаном Грисом было сложнее. Хуан в то время был личностью издерганной
и не вызывающей к себе особых симпатий. Он был очень подавленным и очень
несдержанным и неизменно проницательным и умным. В то время он писал почти
только черным и белым и очень мрачные картины. Канвейлера который его опекал
выслали в Швейцарию, сестра Хуана в Испании лишь немногим могла ему помочь.
Он был в безвыходном положении.
Как раз в это время тот самый коллекционер который позднее будучи
экспертом на распродаже картин Канвейлера говорил что собирается убить
кубизм, решил спасти кубизм и заключил контрак-
-233-
ты со всеми кубистами которые были свободны для творчества. Среди них
был и Хуан Грис и пока что он был спасен.
Вернувшись в Париж мы сразу же поехали навестить Милдред Олдрич. Она
жила в зоне военных действий и мы подумали что для поездки к ней нам
понадобится специальный пропуск. Мы пошли в полицейский участок нашего
квартала и спросили что мы должны делать. Полицейский спросил а какие у вас
есть документы. У нас американские паспорта, французский вид на жительство,
ответила Гертруда Стайн доставая ворох бумаг из кармана. Он посмотрел на все
это и спросил про еще одну желтую бумажку, это что. Это, сказала Гертруда
Стайн, банковская квитанция потому что я только что положила на счет деньги.
Я думаю, серьезно сказал он, ее тоже стоит взять с собой. Я думаю, прибавил
он, раз у вас есть все эти документы все будет в порядке.
На самом деле нам вообще не пришлось предъявлять никаких документов. Мы
провели у Милдред несколько дней.
Той зимой она держалась гораздо бодрее чем все остальные наши знакомые.
Она пережила битву на Марне, в лесу с возвышенности она видела уланов, она
смотрела как под ее домом идет сражение и она стала частью пейзажа Мы ее
дразнили и говорили что она становится похожей на французскую крестьянку и
она, уроженка и жительница Новой Англии, была как это ни смешно,
действительно на нее похожа Всегда поражало что внутри ее маленький
французский крестьянский домишко обставленный французской мебелью,
покрашенный
-234-
французской краской, с французской прислугой и даже с французским
пуделем, выглядел внутри совершенно по-американски. Мы навещали ее несколько
раз той зимой.
Наконец наступила весна и мы собрались куда-нибудь ненадолго уехать.
Наш друг Уильям Кук поработав медбратом в американском госпитале для
французских раненых опять поехал на Пальма де Майорка. Куку который всегда
зарабатывал живописью приходилось туго и он удалился на Пальму где в то
время испанские деньги шли по очень низкому курсу и можно было прекрасно
жить на несколько франков в день. -
Мы решили тоже поехать на Пальму и ненадолго забыть о войне. У нас были
только временные паспорта которые нам выдали в Лондоне и мы пошли в
посольство получать постоянные с которыми можно было ехать в Испанию.
Сначала с нами беседовал добрый пожилой господин который явно не состоял на
дипломатической службе. Нельзя, сказал он, зачем, сказал он, вот я, я живу в
Париже сорок лет и в роду у меня много поколений американцев а паспорта нет.
Нет, сказал он, можно или получить паспорт чтобы поехать в Америку или жить
во Франции без паспорта Гертруда Стайн настояла чтобы нас принял кто-нибудь
из секретарей посольства. Нас принял румяный и рыжий. Он сказал нам в
точности то же самое. Гертруда Стайн спокойно его выслушала. Затем она
сказала, а вот такой-то, он точно в таком же положении что и я, урожденный
америка-
-235-
нец, прожил столько же лет в Европе, писатель и не собирается в
ближайшее время возвращаться в Америку, и он только что получил постоянный
паспорт в вашем отделе. Я думаю, сказал молодой человек, разрумянившсь еще
больше, здесь вероятно произошла какая-то ошибка. Это, ответила Гертруда
Стайн, можно очень легко проверить посмотрев его дело в ваших документах. Он
исчез а потом появился и сказал, вы совершенно правы но видите ли это был
совершенно особый случай. Не существует, сурово сказала Гертруда Стайн,
привилегии предоставляемой одному американскому гражданину которая при
сходных обстоятельствах не распространялась бы на другого американского
гражданина. Он снова исчез и вернулся обратно и сказал, да да, а теперь
позвольте я вам задам необходимые вопросы. Затем он объяснил что у них было
распоряжение выдавать как можно меньше паспортов но если человек
действительно хочет поехать, в чем же дело конечно можно. Паспорта мы
получили в рекордно короткое время.
И мы поехали на Пальму думая что едем только на две-три недели а
провели там всю зиму. Сначала мы поехали в Барселону. Было очень странно
видеть столько мужчин на улицах. Я не думала что на свете осталось так много
мужчин. Глаза так привыкли к улицам без мужчин, а те немногие мужчины
которых можно было увидеть были в форме и поэтому были не мужчины а солдаты,
что при виде толп мужчин гулявших по Рамблас охватывало изумление. Я рано
ложилась и рано вставала а Гертруда Стайн поздно ложилась и поздно вставала
так что мы отчасти
-236-
пересекались но не было такого момента когда взад и вперед по Рамблас
не ходили бы толпы мужчин.
Мы снова приехали на Пальму и Кук нас встретил и все нам устроил. На
Уильяма Кука всегда можно было положиться. Тогда Уильям Кук был бедный но
потом когда он получил наследство и разбогател а у Милдред Олдрич дела пошли
очень плохо и Гертруда Стайн больше не могла ей помогать, он дал
незаполненный банковский чек и сказал, возьмите сколько надо для Милдред,
знаете, моя мать с удовольствием читала ее книги.
Уильям Кук часто исчезал и о нем ничего не было известно а в тот момент
когда он зачем-то был нужен он был тут как тут. Позднее он воевал в
американской армии а мы с Гертрудой Стайн в это же время работали в
Американском фонде помощи французским раненым и мне часто приходилось очень
рано ее будить. Тогда они с Куком писали друг другу самые мрачные письма о
том как неприятен внезапно встреченный рассвет. Рассвет, утверждали они,
хорош тогда когда к нему медленно приближаешься со стороны предшествующей
ночи, но когда резко с ним сталкиваешься утром то он ужасен. Именно Уильям
Кук научил потом Гертруду Стайн водить машину обучая ее на старом такси
времен битвы на Марне. От безденежья Кук стал водителем такси в Париже, это
было в шестнадцатом году а Гертруде Стайн нужно было водить машину по работе
в Американском Фонде помощи французским раненым. Так что темными ночами
выехав за линию укреплений
-237-
Уильям Кук учил Гертруду Стайн водить машину и они оба важно восседали
на водительском месте старенькою предвоенного двухцилиндрового такси Рено.
Это Уильям Кук вдохновил Гертруду Стайн на ее единственный киносценарий
который она написала по-английски. Я только что опубликовала его в сборнике
Оперы и пьесы в простом издании. На второй и последний сценарий, тоже в
Операх и пьесах, написанный много лет спустя и по-французски, ее вдохновил
ее белый пудель по имени Баскет.
Но вернемся к Пальма де Майорка. Мы там были два года назад и нам
понравилось, и теперь нам понравилось. Сейчас там нравится многим
американцам но тогда мы с Куком были единственными американцами на острове.
Там было немного англичан, семьи три. Была некая миссис Пенфорд с мужем,
пожилая дама с острым языком, принадлежавшая к роду одного из капитанов
Нельсона. Это она сказала юному Марку Гилберту, шестнадцатилетнему
английскому мальчику с пацифистскими настроениями который на чаепитии у нее
в доме отказался от торта, Марк, вы или такой большой чтобы сражаться за
свою страну, или такой маленький чтобы есть торт. Марк съел торт.
Там было несколько французских семейств, французский консул с
очаровательной женой-итальянкой, вскоре мы с ней очень подружились. Это его
очень позабавила история которую мы ему рассказали о Марокко. Он состоял при
французском представительстве в Танжере когда французское
-238-
правительство побуждало Мулея Хафида тогдашнего султана Марокко
отречься от престола Тогда мы приехали в Танжер на десять дней, это было во
время той самой первой поездки в Испанию когда произошло так много важного
для Гертруды Стайн.
У нас появился гид Мохаммед а у Мохаммеда возникло расположение к нам.
Он стал скорее приятным спутником чем гидом и мы совершали долгие совместные
прогулки и он водил нас пить чай к своим родственникам в удивительно чистые
арабские среднебуржуазные дома. Нам все это очень нравилось. Еще он нам
рассказывал о политике. Он воспитывался во дворце Мулея Хафида и был в курсе
всех дворцовых интриг. Он сказал нам сколько денег возьмет Мулей Хафид за
свое отречение и когда он будет готов отречься. Нам нравились эти рассказы
как нам нравилось и то что все рассказы Мохаммеда неизменно кончались
словами, а когда вы снова приедете будут трамваи и не надо будет ходить
пешком и как будет хорошо. Потом в Испании мы прочли в газетах что все
произошло в точности так как говорил Мохаммед и мы уже не следили за тем что
было дальше. Как-то раз когда зашла речь о нашей единственной поездке в
Марокко мы рассказали месье Маршану эту историю. Он сказал, да это и есть
дипломатия, вы двое вероятно были единственные не-арабы на свете которые
знали то что так отчаянно хотело узнать французское правительство и вы
узнали об этом совершенно случайно и для вас это не имело никакого значения.
-239-
Жить на Пальме было приятно так что мы решили этим летом больше не
путешествовать а спокойно пожить на Пальме. Мы вызвали нашу французскую
прислугу Жанну Пуль и с помощью почтальона нашли небольшой дом на калле де
Дос де Майо ин Террено, на самой окраине Пальмы, и там и поселились. Мы были
очень довольны. Мы провели там не только лето а задержались до следующей
весны.
Уже некоторое время мы были записаны в библиотеку Мюди в Лондоне и куда
бы мы ни ездили к нам в любое место приходили книги библиотеки Мюди. Это
тогда Гертруда Стайн прочитала мне вслух все письма королевы Виктории а сама
заинтересовалась письмами и дневниками миссионеров. В библиотеке Мюди их
было очень много и она прочла все.
У нас была собака, майоркская гончая, из тех слегка полоумных гончих
которые танцуют при луне, пятнистая, а не одноцветная как испанские гончие
на континенте. Мы звали эту собаку Полиб потому что нам нравились статьи в
Фигаро подписанные именем Полиб. По словам месье Маршана, Полиб был похож на
араба, bon accueil a tout 1е monde еt fidele а personne*. У него была
неискоренимая страсть пожирать отбросы и остановить его было невозможно. Мы
надели на него намордник думая искоренить ее таким образом но это так
возмутило русскую прислугу английского консула что намордник пришлось снять.
Затем он повадился
* Со всеми приветлив, но никому не верен (фр.).
-240-
дразнить овец. Из-за Полиба мы даже начали ссориться с Куком. У Кука
был фокстерьер по имени Мари-Роз и мы были уверены что Мари-Роз вводила
Полиба во грех а потом добродетельно устранялась и получалось что во всем
виноват он. Кук был уверен что мы не умеем воспитывать Полиба. У Полиба была
одна привлекательная черта. Он садился в кресло и осторожно нюхал большой
букет роз который я всегда ставила в напольную вазу посередине комнаты. Он
никогда не пытался их есть, а просто осторожно нюхал. Покинув Пальму мы
оставили Полиба на попечении хранителей старой крепости Бельвер. Когда мы
увидели его неделю спустя он не желал знать ни нас ни своего имени. Полиб
есть во многих пьесах которые тогда писала Гертруда Стайн.
К войне на острове в то время относились очень двойственно. Больше
всего их поражало то во сколько она обходится. Они могли часами обсуждать во
сколько обходится год, месяц, неделя, день, час и даже минута войны. Летним
вечером обычно до нас доносились пять милионов песет, миллион песет, два
миллиона песет, спокойной ночи, спокойной ночи, и мы понимали что они
поглощены бесконечными вычислениями стоимости войны. Поскольку большинство
мужчин даже и в лучшей части среднего сословия с трудом умели читать, писать
и считать а женщины были вовсе неграмотны, можно себе представить какой
увлекательной и бесконечной темой была для них стоимость войны.
У одного из наших соседей была немецкая гу-
-241-
вернантка и всякий раз когда немцы побеждали она вывешивала германский
флаг. Мы по мере возможности отвечали тем же, но увы, как раз в то время
союзники побеждали не так часто. Низшие сословия решительно поддерживали
союзников. Официант в гостинице все время с нетерпением ожидал когда же в
войну на стороне союзников вступит Испания. Он был убежден что испанская
армия станет для них неоценимым подкреплением потому что она может
маршировать дольше при меньшем довольствии чем любая другая армия в мире.
Горничная в гостинице очень интересовалась моим вязанием для солдат. Она
сказала, конечно мадам вяжет очень медленно, благородные все так вяжут. Но
если, спросила я с надеждой, я буду вязать много лет разве я не научусь
вязать быстро, не так быстро как вы но быстро. Нет, твердо ответила она,
благородные вяжут медленно. На самом деле я научилась вязать очень быстро и
даже могла одновременно читать и быстро вязать.
Мы вели приятную жизнь, мы много гуляли и необычайно вкусно ели, и нас
очень забавляла наша служанка-бретонка.
Она была патриотка и всегда носила вокруг шляпы трехцветную ленту.
Однажды она пришла домой очень взволнованная. Она только что виделась с
другой французской служанкой и сказала, представляете, Мари только что
узнала что ее брат утонул и ему устроили гражданскую панихиду. Как это
получилось, спросила я тоже очень взволнованно. Очень просто, сказала Жанна,
его еще не при-
-242-
звали в армию. Иметь брата которому во время войны устроили гражданскую
панихиду было очень почетно. Во всяком случае такое редко случалось. Жанна
удовлетворялась испанскими газетами, она их легко читала, как она говорила,
все важные слова были по-французски.
Жанна рассказывала бесконечные истории из жизни французской деревни и
Гертруда Стайн могла долго их слушать а потом уже не могла.
Жить на Майорке было приятно пока не началось наступление на Верден.
Тогда всем нам стало очень плохо. Мы попытались утешить друг друга но это
было не просто. Один француз, гравер разбитый параличом и несмотря на
паралич каждые несколько месяцев добивавшийся у французского консула чтобы
его взяли в армию, говорил что не надо переживать если возьмут Верден, это
не ворота во Францию, это будет только моральная победа немцев. Но мы все
были безнадежно несчастны. Прежде я чувствовала себя так уверенно а теперь у
меня было ужасное ощущение что война стала неуправляемой.
В порту Пальмы стояло немецкое судно Фапгтурм которое до и наверное
после войны торговало булавками и иголками во всех средиземноморских
портах, потому что это был очень большой пароход. Война застала его в Пальме
и он так и не смог уйти. Большинство офицеров и матросов убыли в Барселону а
огромный корабль остался в гавани. Он казался очень заброшенным и ржавым и
стоял прямо у нас под окнами. Когда началось наступление на Верден Фангтурм
вдруг стали красить. Во-
-243-
образите наши чувства. Нам всем и так было очень плохо а тут наступило
отчаяние. Мы рассказали французскому консулу а он сказал нам и это было
ужасно.
День ото дня новости становились все хуже и хуже и Фангтурм уже
полностью выкрасили с одной стороны а потом перестали красить. Они узнали
раньше нас. Верден уже не возьмут. Верден вне опасности. Немцы оставили
надежду его взять.
Когда все было позади никому больше не хотелось оставаться на Майорке,
нам всем хотелось домой. Это в то время Кук и Гертруда Стайн проводили все
свободное время за разговорами об автомобилях. Ни он ни она никогда не
водили машину но им уж очень хотелось. Кук также задавался вопросом как
зарабатывать на жизнь когда вернется в Париж. Он думал сделаться кучером у
Феликса Потена, лошадей, говорил он, в конце концов он любит больше чем
автомобили. Как бы там ни было он вернулся в Париж а когда вернулись мы, мы
ехали более долгим путем через Мадрид, он уже водил парижское такси. Потом
он стал испытателем машин на заводах Рено и я помню как было интересно когда
он рассказывал что ветер надувает ему щеки когда он делает восемьдесят
километров в час. А потом он воевал в американской армии.
Мы поехали домой через Мадрид. Там произошел любопытный случай. Мы
пошли к американскому консулу получать визы. Консул был большой обрюзгший
человек и у него был помощник филиппинец. Он посмотрел на наши паспорта,
измерил их, взвесил, посмотрел на них вверх ногами и наконец
-244-
сказал что по его мнению паспорта в порядке но вообще он не знает.
Затем он спросил филиппинца что думает он. Филиппинец склонен был
подтвердить что консул вообще не знает. Сделайте вот что, заискивающе
сказал он, раз вы едете во Францию и живете в Париже пойдите к французскому
консулу и если французский консул скажет что паспорта в порядке, ну что же,
консул их подпишет. Консул глубокомысленно кивнул.
Мы разозлились. То что французский а не американский консул должен был
решать в порядке ли американские паспорта ставило нас в неловкое положение.
Но делать было нечего и мы отправились к французскому консулу.
Когда подошла наша очередь человек который нас принимал взял у нас
паспорта, просмотрел их и спросил Гертруду Стайн, когда вы в последний раз
были в Испании. Она задумалась, ей никогда ничего не вспомнить когда ее
спрашивают неожиданно, но ей кажется что это было тогда-то и тогда-то. Он
ответил нет и назвал другой год. Она сказала очень может быть что он прав.
Потом он стал дальше сыпать датами ее различных поездок в Испанию и в конце
концов назвал ту поездку когда она еще училась и когда она была в Испании с
братом сразу после испанской войны. Я стояла рядом и мне было довольно жутко
но Гертруда Стайн и помощник консула были казалось полностью поглощены
установлением дат. Наконец он сказал, дело в том что я много лет работал в
отделе аккредитивов Лионского Кредитного банка в Мад-
-245-
риде а у меня очень хорошая память и я вас помню, конечно я прекрасно
вас помню. Все мы были очень довольны. Он подписал наши паспорта и сказал
чтобы мы шли обратно и предложили нашему консулу сделать то же самое.
Тогда мы разозлились на нашего консула но теперь я думаю не было ли
между консульствами договоренности что американский консул не подпишет ни
один паспорт для въезда во Францию прежде чем французский консул не решит
является ли его владелец желательным или нежелательным лицом
Мы вернулись в совершенно другой Париж. Он был уже не мрачный. Он был
уже не пустой. На этот раз мы не стали готовиться к зиме, мы решили попасть
на фронт. Однажды мы шли по рю де Пирамид и увидели форд который ехал задним
ходом а за рулем сидела молодая американка и на машине было написано
Американский Фонд помощи французским раненым. Вот туда-то, сказала я
Гертруде Стайн, мы и пойдем. По крайней мере, сказала я Гертруде Стайн, вы
будете водить машину а я буду делать все остальное. Мы подошли к машине и
поговорили с молодой американкой а потом встретились с миссис Латроп,
возглавлявший Фонд. Она исполнилась воодушевлением, она всегда
воодушевлялась и сказала, раздобудьте машину. Где, спросили мы. В Америке,
ответила она Как, спросили мы. Попросите кого-нибудь, ответила она и
Гертруда Стайн попросила, она попросила двоюродного брата и через несколько
месяцев у нас появился форд. А пока Кук учил ее водить свое такси.
-246-
Как я уже говорила Париж изменился. Изменилось все, и у всех было
хорошее настроение.
За время нашего отсутствия умерла Ева и Пикассо теперь жил в маленькой
квартирке в Монтруж. Мы поехали к нему. У него на кровати лежало
изумительное розовое шелковое покрывало. Откуда это Пабло, спросила Гертруда
Стайн. Ah, ça* , с большим удовлетворением ответил Пикассо, это одна
дама Покрывало ему подарила одна известная светская дама-чилийка. Покрывало
было чудесное. У Пикассо было прекрасное настроение. Он все время заходил с
Пакереттой милая была девушка или с Иреной совершенно прелестной женщиной
которая приехала с гор и хотела быть свободной. Он привел Эрика Сати,
принцессу де Полиньяк и Блэза Сандрара
Познакомиться с Эриком Сати было очень приятно. Он был родом из
Нормандии и очень ее любил. Из Нормандии была Мари Лорансен и Брак тоже.
Как-то раз после войны Сати и Мари Лорансен обедали у нас и пришли в восторг
друг от друга из-за того что оба были нормандцы. Эрик Сати. был любитель и
большой знаток по части еды и вина. У нас тогда была очень хорошая еаu de
vie** подаренная нам мужем служанки Милдред Олдрич и Эрик Сати, медленно и с
наслаждением потягивая ее из рюмки, рассказывал нормандские истории своей
юности.
Только один раз из тех пяти раз когда Эрик
* А, это (фр.)
** водка (фр.)
-247-
Сати бывал у нас в доме он действительно говорил о музыке. Он сказал
что он считал и рад что теперь это признается всеми, что современная
французская музыка ничем не обязана современной Германии. Что после
первенства в музыке Дебюсси французские музыканты или шли по его пути или
искали собственный французский путь.
Он рассказывал прелестные истории, обычно о Нормандии, он шутил, игриво
а иногда очень язвительно. Он был очаровательный гость. Много лет спустя
Вирджил Томпсон сыграл нам всего Сократа когда мы только что познакомились с
ним в его крошечной комнате у вокзала Сен-Лазар. Именно тогда Гертруда Стайн
стала настоящей поклонницей Сати.
Эллен Ламотт и Эмили Чадбурн, так и не поехали в Сербию, они были еще в
Париже. Эллен Ламотт училась на сестру милосердия в университе Джона
Хопкинса и хотела быть сестрой милосердия ближе к фронту. Она по-прежнему
боялась выстрелов но все-таки хотела быть сестрой милосердия на фронте, и
они познакомились с Мэри Борден-Тернер которая заведовала фронтовым
госпиталем и Эллен Ламотт все-таки была несколько месяцев сестрой милосердия
на фронте. После этого они с Эмили Чадбурн поехали в Китай а после этого
возглавили кампанию против применения опиума.
Мэри Борден-Тернер была и всегда стремилась быть писательницей. Большая
поклонница Гертруды Стайн она возила на фронт и с фронта имеющиеся у нее
сочинения вместе с томами Флобера.
-248-
Она сняла дом возле Буа, он отапливался и той зимой когда мы все
остались без угля и было очень приятно ходить к ней обедать и греться. Нам
нравился Тернер. Он был капитаном британской армии и очень успешно служил в
контрразведке. Он не верил в миллионеров хотя и был женат на Мэри Борден. Он
настоял на том что устроит свою отдельную рождественскую елку для женщин и
детей той деревни где стояла их часть и он всегда говорил что после войны
будет собирать пошлину для англичан в Дюссельдорфе или уедет в Канаду и
заживет простой жизнью. В конце концов, говорил он жене, ты же не
миллионерша, не настоящая миллионерша У него были английские представления о
миллионерстве. В Мэри Борден было очень много чикагского. Гертруда Стайн
всегда говорит что чикагцы тратят столько сил чтобы избавиться от Чикаго что
часто трудно понять что они собой представляют. Им надо избавиться от
чикагского голоса и чтобы это удалось чего они только не делают. Некоторые
понижают голос, некоторые повышают, некоторые заводят английский акцент,
некоторые даже заводят немецкий акцент, некоторые тянут слова, некоторые
говорят очень высоким сдавленным голосом, а некоторые на манер китайцев или
испанцев не шевелят губами. В Мэри Борден было очень много чикагского и она
и Чикаго страшно интересовали Гертруду Стайн.
Все это время мы ждали наш форд который был в пути а потом мы ждали
пока ему оборудуют кузов. Мы очень долго ждали. Это тогда Гертруда Стайн
написала много коротких стихотворений о
-249-
войне, некоторые опубликованы в сборнике Полезныс знания в который
вошли вещи только об Америке. Раззадоренные публикацией Нежных пуговиц
многие газеты нашли себе забаву подражать Гертруде Стайн и ее высмеивать. В
Лайф появилась рубрика По мотивам. Гертруды Стайн.
Гертруда Стайн однажды взяла и написала письмо Мэнсону который тогда
был редактором Лайф и сказала ему что как заметил Генри Мак Брайд настоящая
Гертруда Стайн во всех отношениях смешнее подражаний не говоря о том что
намного интереснее, и почему бы им не напечатать оригинал. К своему
изумлению она получила от мистера Мэнсона очень милое письмо в котором он
писал что с удовольствием ее напечатает. И напечатал. Они напечатали две
вещи которые она им послала, одну о Вильсоне а другую более длинную о работе
по содействию фронту во Франции. Мистер Мэнсон оказался смелее многих.
В Париже той зимой было страшно холодно а угля не было. У нас в конце
концов его не осталось вовсе. Мы закрыли большую комнату и переселились в
маленькую но в конце концов уголь кончился. Правительство бесплатно выдавало
уголь бедным но нам совесть не позволяла посылать нашу служанку стоять за
ним в очереди. Как-то был страшно холодный день, мы вышли на улицу а на углу
стоял полицейский и с ним сержант полиции. Гертруда Стайн подошла к ним.
Послушайте, спросила она, что нам делать. Я живу во флигеле на рю де Флерюс
и живу там уже много лет. Да да, сказа-
-250-
ли они кивая головами, конечно мадам мы вас прекрасно знаем И вот,
сказала она, у меня нет угля, нет даже для того чтобы отапливать одну
маленькую комнату. Я не хочу посылать служанку за бесплатным углем, по-моему
это нечестно. А теперь, сказала она, вы мне скажите что мне делать.
Полицейский посмотрел на своего сержанта и сержант кивнул. Хорошо, сказали
они.
Мы пошли домой. Вечером полицейский одетый в штатское принес два мешка
угля. Мы с благодарностью их приняли и вопросов не задавали. Полицейский,
дюжий бретонец, стал нашей надЕжой и опорой, он делал нам все, он убирал в
доме, он чистил трубы, он нас прятал и он выводил нас обратно темными ночами
во время тревоги и нам было спокойнее оттого что мы знали что он где-то там
на улице.
Время от времени бывали воздушные тревоги но мы привыкли к ним так же
как привыкли ко всему остальному. Когда они случались во время ужина мы
продолжали есть а когда они случались ночью Гертруда Стайн меня не будила,
она говорила что если я сплю мне уж лучше оставаться там где я есть потому
что если я сплю меня не разбудит даже сирена которой тогда подавался сигнал
тревоги.
Наш крошка форд был почти готов. Потом его назвали Тетушка в честь тети
Гертруды Стайн Полины которая безупречно себя вела в критических ситуациях и
почти всегда достойно вела себя если ей умело льстили.
Однажды пришел Пикассо а с ним и опираясь
-251-
на его плечо элегантный стройный юноша Это Жан, объявил Пабло, Жан
Кокто и мы уезжаем в Италию.
Пикассо очень загорелся когда ему предложили оформить русский балет,
музыку должен был писать Сати, либретто Жан Кокто. Все воевали, на
Монпарнасе было тоскливо, в Монтруж даже с верным слугой жилось скучно, ему
тоже нужно было переменить обстановку. Он очень оживился когда ему
предложили поехать в Рим. Мы все попрощались и все разъехались в разные
стороны.
Крошка форд был готов. Гертруда Стайн научилась водить французскую
машину и все говорили что это то же самое. Я никогда никаких машин не водила
но это было явно не одно и то же. Когда он был готов мы поехали его забирать
в пригород Парижа и Гертруда Стайн села за руль. Конечно для начала она
застряла на рельсах между двумя трамваями. Все вышли и столкнули нас с
рельсов. Когда на следующий день мы решили покататься еще и доехали до самых
Елисейских полей мы снова застряли. Толпа сдвинула нас к обочине а потом
стали разбираться в чем дело. Гертруда Стайн провернула двигатель, вся толпа
провернула двигатель, и ничего. Наконец один старый шофер сказал, нет
бензина. Мы гордо сказали, как раз есть, по меньшей мере галлон, но он
настаивал чтобы ему дали посмотреть и конечно бензина не было. Потом толпа
остановила целую колонну военных грузовиков которые ехали по Елисейским
полям. Все они остановились а несколько человек принесли громадный бак
бензина и попытались залить его в
-252-
крошку форд. Эта попытка естественно не увенчалась успехом В конце
концов я взяла такси и поехала в один магазин в нашем квартале где
продавались метлы и бензин и где меня знали и вернулась с канистрой бензина
и в конце концов мы добрались до Алькасар д'Этэ, где тогда был штаб
Американского Фонда помощи французским раненым.
Миссис Латроп ждала чтобы какая-нибудь машина подвезла ее на Монмартр.
Я немедленно предложила ей воспользоваться нашей и пошла сказать об этом
Гертруде Стайн. Гертруда Стайн процитировала мне Эдвина Доджа. Сын Мэйбл
Додж однажды сказал что он хочет перелететь с террасы в нижний сад. Давай,
сказала Мэйбл. Легко, сказал Эдвин Додж, быть матерью-спартанкой.
Но миссис Латроп села и- машина поехала. Должна признаться что я
страшно нервничала пока они не вернулись обратно но они вернулись.
Мы получили распоряжения от миссис Латроп и она послала нас в
Перпиньян, туда где было очень много госпиталей в которых еще не работала ни
одна американская организация. Мы отправились в путь. Мы никогда еще не
ездили на этой машине из Парижа дальше Фонтенбло и было ужасно интересно.
Мы добирались с приключениями, начался снегопад и я была уверена что мы
поехали не по той дороге и хотела повернуть обратно. По той или не по той,
сказала Гертруда Стайн, едем дальше. Ей не очень удавался задний ход и могу
в самом деле сказать что даже сейчас когда она может водить
-253-
какую угодно машину и где угодно, задний ход ей по-прежнему не очень
хорошо удается. Вперед она едет прекрасно, у нее хуже с ездой назад.
Единственное из-за чего у нас в связи с ее вождением возникали ожесточенные
споры это задний ход.
В ту поездку на Юг мы подвезли нашего первого фронтового крестника.
Тогда мы взяли себе за правило подсаживать всякого солдата на дороге и
держались его всю войну. Мы ездили днем и мы ездили ночью и по очень глухим
частям Франции и мы всегда останавливались и подвозили всякого солдата и ни
разу не было так чтобы от этих солдат у нас не осталось самое приятное
впечатление. А некоторые из них как потом иногда оказывалось были весьма
опасными личностями. Гертруда Стайн однажды сказала солдату который что-то
ей делал, они всегда ей что-нибудь делали, если где-нибудь был солдат или
шофер или любой другой мужчина, она никогда ничего не делала сама, нужно ли
было сменить шину, провернуть двигатель или починить машину. Гертруда Стайн
сказала этому солдату но вы лее tellement gentil, так милы и любезны.
Мадам, бесхитростно ответил он, все солдаты милы и любезны.
Способность Гертруды Стайн устраивать так чтобы ей все всЕ делали
озадачивала других водителей в организации. Миссис Латроп которая сама
водила машину говорила что ей никто ничего такого не делает. И не только
солдаты, шофер частной машины на Пляс Вандом вставал со своего места и
проворачивал двигатель ее старого форда. Гертруда Стайн говорила что у
других такой вид
-254-
будто они все умеют, конечно никому не придет в голову что-нибудь для
них делать. Ну а что касается ее то она ничего не умела, она была
приветлива, она была демократична, все люди были для нее одинаково хороши, и
она знала что ей нужно. Если так себя вести, говорит она, тебе все всЕ будут
делать. Самое главное, утверждает она, чтобы у тебя глубоко внутри как самое
глубинное чувство было заложено чувство равенства. Тогда тебе все всЕ будут
делать.
Неподалеку от Солье мы подсадили нашего первого военного крестника. Это
был мясник из маленькой деревушки неподалеку от Солье. То как мы его
подсадили было хорошим примером демократичности французской армии. Их шло
трое. Мы остановились и сказали что можем взять одного человека на подножку.
Все трое шли на побывку домой и все шли по домам пешком из ближайшего
большого города. Был один лейтенант, один сержант и один солдат. Они
поблагодарили нас а потом лейтенант спросил каждого из них, тебе далеко
идти. Каждый сказал ему сколько а потом они спросили, а вам, мой лейтенант,
вам далеко идти. Он ответил. Потом они согласились что гораздо дальше чем
всем остальным идти солдату поэтому будет справедливо если подвезут его. Он
козырнул сержанту и офицеру и сел в машину.
Это как я уже сказала был наш первый фронтовой крестник. Потом их
появилось очень много и отношения с ними всеми стали отдельным занятием.
Обязанности военной крестной заключались в том чтобы отвечать на каждое
письмо которое
-255-
она получала и приблизительно раз в десять дней посылать посылки с
какими-нибудь вещами или лакомствами. Им нравилось получать посылки но еще
больше им нравилось получать письма И они так быстро отвечали. Мне казалось
что не успею я написать письмо как уже приходит ответ. И затем нужно было
помнить все что они рассказывали о своих семьях и однажды я сделала ужасную
вещь, я перепутала письма и написала солдату который рассказывал мне все о
своей жене а мать у него умерла чтобы он передал привет матери, а тому у
которого была мать чтобы он передал привет жене. Их ответные письма были
очень грустные. Каждый объяснял что я ошиблась и было понятно что их глубоко
задела моя ошибка
Нашим самым очаровательным крестником мы обзавелись в Ниме. Однажды мы
пошли в город и я обронила кошелек. Я заметила пропажу уже в гостинице и
встревожилась потому что там было довольно много денег. Когда мы обедали
официант сказал что кто-то нас спрашивает. Мы вышли и увидели человека
который держит в руке кошелек. Он сказал что подобрал его на улице и как
только освободился после работы пошел в гостиницу нам его вернуть. В
кошельке лежала моя визитная карточка и он совершенно не сомневался что
приезжие будут в гостинице, к тому же к этому времени нас уже хорошо знали в
Ниме. Я естественно предложила ему солидное вознаграждение из содержимого
кошелька но он сказал нет. Тем не менее сказал что хочет попросить об одном
одолжении. Они были беженцы с Марны и его сын семнадца
-256-
тилетний Абель только что ушел добровольцем и сейчас служит в Нимском
гарнизоне, не могла ли бы я стать его крестной. Я сказала могла бы и
попросила передать сыну чтобы он зашел как только у него будет свободный
вечер. На следующий вечер пришел самый юный, самый прелестный, самый
маленький солдат какого только можно себе представить. Это был Абель.
Мы очень привязались к Абелю. До сих пор помню его первое письмо с
фронта Оно начиналась с того что его на фронте ничего особенно не удивило,
все оказалось точно таким как ему рассказывали и как он себе представлял,
разве что за отсутствием столов приходится писать на коленях.
Когда мы в следующий раз видели Абеля он носил красную fourragfre*
потому что весь его полк наградили орденом Почетного легиона и мы очень
гордились нашим filleul**. Еще позднее, когда мы поехали в Эльзас с
французской армией, после перемирия Абель жил у нас несколько дней и как же
мальчик гордился собой когда он поднялся на верхнюю площадку Страсбургского
собора
Когда мы наконец вернулись в Париж Абель приехал и жил у нас неделю. Мы
всюду его водили и вечером первого дня он торжественно произнес, по-моему
стоило за это сражаться. Но вечерний Париж его пугал и всегда приходилось
кого-то просить пойти вместе с ним. На фронте не было страшно но в Париже
вечером было. Еще через
* аксельбант (фр.)
** крестник (фр.)
-257-
какое-то время он написал что его семья переезжает в другой департамент
и оставил свой новый адрес. По какой-то ошибке письма по этому адресу не
доходили и мы его потеряли.
Наконец мы все-таки доехали до Перпиньяна и стали ходить по госпиталям
и раздавать наши запасы и запрашивать штаб если нам казалось что того что у
нас есть недостаточно и нужно еще. Сначала было немного трудно но вскоре все
что нам положено было делать мы делали уже очень хорошо. Кроме того нам
выдали огромное количество сумок с подарками и раздача этих сумок
превращалась в сплошной праздник, это было похоже на постоянное Рождество.
Всегда у нас имелось разрешение заведующего госпиталем собственноручно самим
раздавать их солдатам что само по себе было большим удовольствием но еще и
давало возможность сделать так чтобы солдаты сразу же писали
благодарственные открытки а открытки мы пачками отсылали миссис Латроп
которая отсылала их в Америку тем людям которые послали подарки. И таким
образом все были довольны. Потом остро стоял вопрос о бензине. По приказу
французского правительства Американский Фонд помощи французским раненым имел
право покупать бензин в первую очередь. Но покупать было нечего. У
французской армии было много бензина и они охотно давали бы его нам
бесплатно но продавать его они не могли а мы имели право его покупать но не
получать даром Нужно было переговорить с офицером который распоряжался
хозяйственной частью.
-258-
Гертруда Стайн была вполне готова водить машину где угодно, вручную
заводить двигатель всякий раз когда больше заводить его было некому,
ремонтировать машину, а надо сказать что она ее ремонтировала очень хорошо
хотя она и не выразила готовности разобрать и собрать мотор для тренировки
как мне сначала хотелось, она даже смирилась с утренними вставаниями, но она
наотрез отказывалась ходить по каким бы то ни было приемным и вести
переговоры с какими бы то ни было чиновниками. Официально я была
представитель а она была водитель но идти говорить с майором пришлось мне.
Майор оказался очаровательный. Переговоры тянулись очень долго, он
посылал меня туда и сюда но в конце концов все разрешилось. Конечно все это
время он называл меня мисс Стайн потому что все предъявляемые ему документы
были на имя Гертруды Стайн, водитель была она. Так вот, сказал он,
мадемуазель Стайн, моя жена очень хочет с вами познакомиться и она просила
меня пригласить вас на обед. Я очень смутилась. Я была в нерешительности. Но
я не мадемуазель Стайн, сказала я. Он чуть не выпрыгнул из-за стола. Что,
закричал он, не мадемуазель Стайн. Тогда кто вы. Не забывайте что время было
военное а Перпиньян почти на испанской границе. Вообще, сказала я,
поговорите с мадемуазель Стайн. Где мадемуазель Стайн, спросил он. Она
внизу, пролепетала я, в автомобиле. Вообще что это все значит, спросил он.
Вообще, сказала я, понимаете Гертруда Стайн водитель а я представитель и у
мадемуазель Стайн не
-259-
хватает терпения, она не хочет ходить по приемным и ждать и
собеседовать и объяснять, вот почему я это делаю а она сидит в автомобиле.
Но, что бы вы делали строго спросил он, если бы я попросил вас что-нибудь
подписать. Я бы вам сказала, сказала я, как я вам говорю сейчас. Да
действительно, сказал он, пойдемте вниз и поговорим с этой мадемуазель
Стайн.
Мы спустились, Гертруда Стайн сидела в форде на водительском месте и он
к ней подошел. Они сразу же подружились и он повторил приглашение и мы пошли
на обед. Было хорошо. Мадам Дюбуа была из Бордо, области знаменитой своей
едой и вином И какой едой и прежде всего супом. Он до сих пор остается для
меня эталоном всех супов на свете. Бывают супы которые к нему приближаются,
редкие достигли его но еще ни один не превзошел.
Перпиньян расположен недалеко от Ривсота а Ривсот это родина Джоффра.
Там был небольшой госпиталь и в честь папы Джоффра мы получили для него
дополнительное довольствие. Еще мы сфотографировались на маленькой улочке
возле дома где родился Джоффр в нашей крошке форд с красным крестом и
буквами АФПФР и напечатали фотографию и послали ее миссис Латроп. Открытки
посылались в Америку и доход от продажи шел на нужды Фонда. Тем временем США
вступили в войну и кто-то по нашей просьбе прислал нам много тесьмы с
напечатаными на ней звездами и полосами и мы отрезали от нее по кусочку и
дарили всем солдатам и они и мы были довольны.
-260-
В связи с этим вспоминается один французский крестьянин. Потом уже в
Ниме к нам приставили американского парнишку с машиной скорой помощи и мы
поехали за город. Парнишка решил посетить водопад, я пошла осматривать
госпиталь а Гертруда Стайн отсталась в машине. Когда я вернулась она
рассказала что к ней подошел старый крестьянин и спросил что за форма на
парне. Это, гордо ответила она, форма американской армии, вашего нового
союзника. О, сказал крестьянин. И затем задумчиво je me demande, je me
demande, qu'est que nous ferons emsemble*
Выполнив задание в Перпиньяне мы поехали обратно в Париж. По.дороге с
машиной происходило все что только может случиться. Вероятно в Перпиньяне
даже форду было слишком жарко. Перпиньян расположен около Средиземного моря
ниже его уровня и там жарко. После Перпиньяна Гертруда Стайн которая прежде
всегда хотела чтобы было жарко и еще жарче теперь стала относиться к жаре
без энтузиазма. Она говорила что чувствует себя блином, жарко сверху и жарко
снизу да еще машина которую заводишь вручную. Не знаю как часто ругалась и
говорила, а пошло оно все, то есть пошло все что вокруг. Я подбадривала ее и
не соглашалась пока машина не заводилась опять.
Как раз из-за этого миссис Латроп подшутила над Гертрудой Стайн. После
войны мы обе полу-
* Я спрашиваю себя я спрашиваю себя чего мы добьемся вместе (фр.)
-261-
чили награды от французского правительства, нам дали Reconnaissance
Française*. Когда выдают награду то всегда выдают выдержку из приказа
где объясняется за что ее выдают. Перечень заслуг у нее и у меня был
совершенно одинаковый, только у меня говорилось за преданность sans гelâсhе,
неотступную преданность а у нее слов sans гelâсhе не было.
По пути в Париж с машиной, как я уже говорила, происходило все что
угодно но с помощью старого бродяги который тянул и толкал в критические
моменты Гертруде Стайн удалось добраться до Невера где мы встретили первые
американские части. Это были хозяйственная часть и морские пехотинцы, первый
контингент войск который прибыл во Францию. Там мы впервые услышали, как
говорит Гертруда Стайн, печальную песнь морских пехотинцев, о том что всем в
американской армии так или иначе случалось бунтовать но только морским
пехотинцам никогда..
Как только мы въехали в Невер мы увидели Тарна Мак Гру, калифорнийца и
парижанина с которым мы были почти не знакомы но он был в форме и мы
воззвали о помощи. Он откликнулся. Мы рассказали ему наши беды. Он сказал,
хорошо, поставьте машину в гараж гостиницы а завтра кто-нибудь из солдат с
ней разберется. Мы так и поступили.
Тот вечер по просьбе мистера Мак Гру мы провели в УМСА и в первый раз
за много много
* Благодарность Франции (фр.)
-262-
лет увидели американцев просто американцев, таких которые сами по себе
никогда бы не приехали в Европу. Это было весьма любопытно. Гертруда Стайн
конечно со всеми поговорила, у каждого выяснила из какого он штата и города,
чем занимается, сколько ему лет и как ему здесь нравится. Она поговорила с
французскими девушками которые были с американскими парнями и французские
девушки сказали ей что они думают об американских парнях а американские
парни сказали ей все что они думают о французских девушках.
Следующий день она провела в гараже с Калифорнией и Айовой, как она
назвала двух солдат которых отрядили ремонтировать ее машину. Ей нравилось
что всякий раз когда где-нибудь раздавался ужасный рев, они серьезно
говорили друг другу, просто это французский шофер переключает передачу.
Гертруда Стайн, Калифорния и Айова так увлеклись друг другом что когда мы
выехали из Невера машина к сожалению протянула не очень долго, но до Парижа
мы все-таки добрались.
В это время Гертруда Стайн задумала написать такую историю Соединенных
Штатов где в одной главе говорилось бы об отличиях Айовы от Канзаса а в
другой Канзаса от Небраски и так далее. Она написала несколько глав и они
тоже были опубликованы в том самом сборнике Полезные знания.
Мы пробыли в Париже недолго. Как только починили машину мы уехали в
Ним, нам поручили три департамента, Гар, Буш де Рон и Воклюз.
Мы приехали в Ним и очень удобно там устроились. Мы пошли представиться
главному воен-
-263-
ному врачу города, доктору Фабру, и благодаря необыкновенной любезности
и его самого и его жены очень быстро освоились в Ниме но пока мы не начали
работать доктор Фабр попросил нас об одном одолжении. В Ниме не осталось
машин скорой помощи. В военном госпитале лежал аптекарь, армейский капитан,
который был тяжело болен, был при смерти, и хотел умереть дома. С ним была
жена и сидеть с ним собиралась она а от нас требовалось только отвезти его
домой. Конечно мы согласились и повезли.
Мы проделали долгий тяжелый путь по горам и не успели вернуться до
темноты. Нам еще оставалось прилично ехать до Нима как вдруг мы увидели на
дороге две фигуры. Фары старого форда плохо освещали дорогу и совсем не
освещали обочину и мы толком не поняли кто это. Тем не менее мы остановились
как останавливались всегда если кто-то голосовал на дороге. Один,
по-видимому офицер, сказал, у меня сломалась машина а я должен вернуться в
Ним Хорошо, сказали мы, залезайте оба в кузов, там есть матрац и все
остальное, располагайтесь. Мы поехали дальше в Ним. Когда мы въехали в город
я спросила через оконце, где вы хотите выйти, куда вам надо, и голос
ответил, в отель Люксекмбург. Мы подъехали к отелю Люксембург и
остановились. Здесь было очень светло. Мы услышали возню в кузове а потом
перед нами появился невысокий, совершенно разъяренный человек в фуражке и с
дубовыми листьями полного генерала и орденом Почетного легиона на шее. Он
сказал, я хочу вас поблагодарить но сначала
-264-
должен узнать кто вы. Мы, радостно ответила я, представители
Американского Фонда помощи французским раненым и сейчас приписаны к Ниму. А
я, парировал он, генерал который здесь командует а ваша машина, насколько я
вижу, имеет французский военный номер и вы должны были сразу же мне
рапортовать. Правда, сказала я, я не знала, извините пожалуйста Пожалуйста,
раздраженно ответил он, сообщайте о своих нуждах и желаниях.
Мы сообщили очень скоро потому что конечно стоял извечный вопрос
бензина и он был сама любезность и все нам устроил.
Маленький генерал и его жена были с севера Франции и они остались без
крова и называли себя беженцами. Потом когда по Парижу стали бить Большие
Берты и один снаряд попал в Люксембургский сад совсем близко от рю де
Флерюс, должна признаться, я расплакалась и сказала что не хочу быть
несчастной беженкой. Многим беженцам мы помогали. Гертруда Стайн сказала, у
генерала Фротьера вся семья беженцы и они не несчастные. Я не хочу быть
такой же не несчастной, с горечью ответила я.
Вскоре в Ним пришла американская армия. Мадам Фабр встретив нас однажды
сказала что ее кухарка видела американских солдат. Она наверное перепутала
их с английскими, сказали мы. Нет, что вы, сказала она, она большая
патриотка Так или иначе пришли американские солдаты, пришел полк Службы
Снабжения SOS, я так хорошо помню как они говорили название ударяя на бы.
-265-
Вскоре мы со всеми познакомились а с некоторыми познакомились очень
близко. Там был Дункан, паренек с юга с таким сильным южным акцентом что
когда он начинал что-то рассказывать к середине истории я уже совершенно
терялась. Гертруда Стайн, у которой вся родня из Балтимора, затруднений не
испытывала и они с ним покатывались со смеху, а я только и поняла что его
прирезали как цыпленка. Жители Нима были обескуражены не меньше моего.
Многие дамы в Ниме очень хорошо говорили по-английски. В Ниме всегда были
английские гувернантки и они, нимские дамы, всегда гордились своим знанием
английского но, по их словам, не. только они не понимали этих американцев но
и эти американцы когда они говорили по-английски не понимали их. Мне
пришлось признаться что со мной происходит приблизительно то же самое.
Солдаты все были из Кентукки, Южной Каролины и так далее и понимать их
было трудно.
Дункан был душка. Он был сержант интендантской службы и когда мы стали
находить американских солдат то в одном то в другом французском госпитале
мы всегда брали с собой Дункана чтобы он дал американскому солдату белого
хлеба и что-нибудь из потерянного обмундирования. Бедный Дункан страдал что
он не на фронте. Он записался в армию еще во время экспедиции в Мексику и
вот сидел глубоко в тылу без всякой надежды оттуда выбраться потому что он
был один из тех немногих кто понимал сложную систему армейской бухгалтерии и
офицеры не рекомендовали его для отправки на
-266-
фронт. Я уеду, с отчаянием говорил он, пусть меня разжалуют если хотят
я уеду. Но как мы ему объяснили сбежавших самовольно очень много, на юге их
было полно, мы их постоянно встречали и они спрашивали, скажите, а военного
патруля тут нет. Дункан не был создан для такой жизни. Бедный Дункан. За два
дня до перемирия он зашел к нам и он был пьян и зол. Вообще он не пил но
было слишком ужасно возвращаться и смотреть в глаза родным так и не побывав
на фронте. Он сидел с нами в маленькой гостиной а в соседней комнате были
офицеры из его части и они ни в коем случае не должны были видеть в каком он
состоянии а ему уже было пора возвращаться в часть. Он задремал уронив
голову на стол. Дункан, резко сказала Гертруда Стайн, да, ответил он. Она
сказала, послушай Дункан. Сейчас мисс Токлас встанет, ты тоже встанешь и
будешь смотреть прямо ей в затылок, понял. Понял, сказал он. А потом она
пойдет а ты пойдешь за ней и не смей ни на секунду отводить глаза от ее
затылка пока не сядешь в мою машину. Понял, сказал он. И он действительно
понял и Гертруда Стайн отвезла его в часть.
Душка Дункан. Это он ликовал узнав что американцы взяли сорок деревень
в Сен-Мишель. В тот день он должен был ехать вместе с нами в Авиньон
отправлять ящики. Он очень прямо сидел на подножке и вдруг его взгляд
привлекли какие-то дома Что это, спросил он. А, просто деревня, ответила
Гертруда Стайн. Через минуту опять появились дома. А это что, спросил он. А,
просто де-
-267-
ревня. Он совсем замолчал и стал смотреть на окрестный пейзаж совсем
другими глазами. Вдруг, глубоко вздохнув, он сказал, сорок деревень, это
совсем не много.
Нам действительно очень нравилось жить с нашими солдатиками. Я бы
хотела рассказывать только солдатские байки. Они на удивление хорошо ладили
с французами. Они вместе работали в железнодорожных ремонтных мастерских.
Американцев тяготил только длинный рабочий день. Они работали слишком
сосредоточенно чтобы работать так долго. В конце концов договорились что они
делают свою работу за столько времени за сколько они привыкли а французы за
столько за сколько они привыкли. Было очень много дружеского соперничества
Американские парни говорили что не понимают какой смысл так отделывать то
что все равно так скоро опять взорвут, французские что раз не отделано
значит не кончено. Но обе компании сильно друг другу нравились.
Гертруда Стайн все время говорила что на войне гораздо лучше можно
понять Америку чем если просто поехать в Америку. Здесь вы были с Америкой
так как это было бы невозможно если просто поехать в Америку. В нимский
госпиталь то и дело привозили американских солдат а доктор Фабр знал что у
Гертруды Стайн есть медицинское образование и всегда хотел чтобы в таких
случаях она была рядом. Один из наших парней выпал из поезда Он не думал что
эти маленькие французские поезда могут ездить быстро но они ездили, и так
быстро что он разбился насмерть.
-268-
Это превратилось в большое событие. Гертруда Стайн вместе с женой
префекта, главы администрации департамента и генеральша представляли на
похоронах родственников покойного, Дункан и еще два солдата трубили в горн и
все говорили речи. Протестантский пастор попросил Гертруду Стайн рассказать
о покойном и его добродетелях а она попросила солдатиков. Найти какую-нибудь
добродетель было трудно. Он был по-видимому еще тот тип. Неужели вы не
можете сказать о нем ничего хорошего, в отчаянии спросила она Наконец
Тэйлор, один из его товарищей, с торжественным видом посмотрел на нее и
сказал, сердце у него я вам доложу было большое как лоханка
Я часто задаюсь и задавалась тогда вопросом, связывал ли кто-нибудь из
всех этих солдатиков Гертруду Стайн которую они в то время так хорошо знали
с Гертрудой Стайн из газет.
Мы жили очень напряженной жизнью. На нас были все американцы, в
маленьких окрестных больницах и в нимском гарнизоне их было очень много и
нужно было их всех найти и обо всех позаботиться, потом были все французы в
госпиталях, каждого нужно было посетить потому что на самом деле именно в
этом заключались наши обязанности, а потом началась эпидемия испанки и
Гертруда Стайн с одним военным врачом из Нима ездили по всем деревням на
много миль вокруг чтобы перевезти в Ним всех больных солдат и офицеров
которые заболели дома в увольнении.
Во время этих долгих поездок она снова стала много писать. Пейзаж,
странная жизнь дали ей
-269-
толчок. Это тогда она полюбила долину Роны, тот пейзаж который значит
для нее так много как никакой другой. Мы по-прежнему здесь в Билиньене в
долине Роны.
Она написала в то время стихотворение Дезертир, почти сразу же
напечатанное в Ярмарке тщеславия. Генри Мак Брайд заинтересовал ее
творчеством Крауниншильда. Как-то раз в Авиньоне мы встретились с Браком.
Брак был тяжело ранен в голову и лежал в госпитале в Сорге под Авиньоном.
Как раз когда он там лежал ему стали приходить мобилизационные предписания.
Повидаться с Браками было ужасно приятно. Пикассо только что объявил в
письме Гертруде Стайн что он женится на jeune fille*, на молодой, и в
качестве свадебного подарка прислал Гертруде Стайн прелестную маленькую
картину и фотографию портрета своей жены.
Эту прелестную маленькую картину он скопировал мне на холщовую основу
много лет спустя а я сделала вышивку по его рисунку и так началось мое
вышивание. Мне казалось что неудобно просить его делать рисунки для вышивки
но когда я сказала об этом Гертруде Стайн она ответила, хорошо, я его
попрошу. И однажды когда он был у нас она сказала, Пабло, Алиса хочет вышить
эту маленькую картину и я сказала что нанесу ей контуры. Он посмотрел на нее
со снисходительным презрением, если кто-то будет это делать, сказал он, это
буду я. Тогда, сказала Гертруда Стайн дос-
* девушке (фр.)
-270-
тавая кусок холста, приступайте, и он приступил. И с тех пор я вышиваю
по его рисункам и с большим успехом а вышивки очень хороши на старых
стульях. Две таких я сделала для двух маленьких стульев эпохи Людовика XV.
Он любезно делает мне рисунки прямо по рабочему холсту и их раскрашивает.
Еще Брак нам сказал что Аполлинер тоже женился на молодой. Мы всласть
посплетничали. Но вообще рассказывать особенно было нечего.
Время шло, мы были очень заняты а потом наступило Перемирие. Мы первые
принесли эту весть во многие маленькие деревушки. Французские солдаты в
госпиталях испытывали скорее не радость а облегчение. Они как будто считали
что мир будет не таким уж долгим. Помню один из них сказал Гертруде Стайн
когда она ему сказала, вот и наступил мир, по крайней мере на двадцать лет,
сказал он.
На следующее утро мы получили телеграмму от миссис Латроп. Приезжайте
немедленно если хотите поехать с французскими войсками в Эльзас. Мы не
останавливались по дороге. Мы доехали за день. Почти сразу же мы выехали в
Эльзас.
Мы выехали в Эльзас и по дороге у нас произошла наша первая и
единственная авария. Дороги были чудовищные, грязь, выбоины, слякоть и
запружены французским войсками которые шли в Эльзас. Когда мы обгоняли обоз
упряжка лошадей которая везла полевую кухню дернулась в сторону и
столкнулась с нашим фордом, отлетело крыло и ящик с инструментом и что хуже
всего силь-
-271-
но погнулся треугольник рулевого управления. Военные подобрали наше
крыло и наши инструменты но с погнутым треугольником ничего нельзя было
поделать. Мы поехали дальше, то в гору то под гору, машину швыряло по
раскисшей дороге из стороны в сторону, а Гертруда Стайн будто приросла к
рулю. Наконец километров через сорок мы увидели на дороге каких-то людей из
американской скорой помощи. Где можно починить машину. Немного дальше,
сказали они. Мы проехали немного дальше и увидели американскую машину
скорой помощи. Лишнего крыла у них не было но они могли дать другой
треугольник. Я рассказала о наших бедах сержанту, он недовольно, хрюкнул и
вполголоса что-то сказал механику. Затем повернувшись к нам он отрывисто
произнес, заводите ее сюда. Потом механик снял гимнастерку и набросил ее на
радиатор. Как сказала Гертруда Стайн, когда американец так поступает машина
его.
Раньше мы совершенно не понимали для чего нужны крылья но пока мы
доехали до Нима мы поняли. Во французской армейской мастерской нам приделали
новое крыло и дали новый ящик с инструментом и мы поехали дальше.
Вскоре мы доехали до полей сражений и окопов с обеих сторон. Их
невозможно себе представить тому кто их не видел тогда. Это было не ужасно
а странно. Мы привыкли к разрушенным домам и даже к разрушенным городам но
это было нечто совсем другое. Это был пейзаж. Пейзаж никакой страны.
-272-
Помню как французская сестра милосердия однажды говорила о фронте и
единственное что она на самом деле о нем сказала, это c'est un paysage
passionnant, это захватывающий пейзаж. И как раз таким он и был когда мы его
увидели. Он был странный. В нем было все, камуфляж, бараки. Было сыро и
холодно, бродили какие-то люди но непонятно китайцы или европейцы. У нас
отказал ремень вентилятора. Остановилась штабная машина и его закрепили
шпилькой, мы еще носили шпильки.
Еще нас необычайно заинтересовало то что у французов камуфляж выглядит
совершенно иначе чем у немцев а один раз мы наткнулись на какой-то очень
очень аккуратный камуфляж и он оказался американским. Принцип был одинаковый
но поскольку национальное исполнение было все же различным были неизбежны и
различия. Цветовая гамма была разная, пятна были разные, способ наложения
пятен был разный, это наглядно объясняло всю теорию искусства и ее
неизбежность.
Наконец мы приехали в Страсбург а потом оттуда поехали в Мюлуз. В
Мюлузе мы пробыли до самой середины мая.
В Эльзасе мы занимались не госпиталями а беженцами. По всему
разоренному краю жители возвращались в разрушенные дома и АФПФР задался
целью обеспечить каждую семью парой одеял, нижним бельем, шерстяными чулками
для детей и пинетками для младенцев. Ходили слухи что припасенные в огромных
количествах пинетки для младенцев брались из подарков предназначенных
-273-
миссис Вильсон которая тогда вот-вот должна была произвести на свет
маленького Вильсона. Пинеток для младенцев было много но для Эльзаса совсем
не много.
Наш штаб размещался в актовом зале одной из школ в Мюлузе. Немецкие
школьные учителя исчезли и преподавать временно отрядили французских
школьных учителей которые оказались в армии. Директор нашей школы был в
отчаянии, не из-за послушания и готовности учеников учить французский а
из-за их одежды. Все французские дети всегда аккуратно одеты. Оборвышей не
бывает, даже сироты в глухих деревнях аккуратно одеты, точно так же как все
француженки аккуратные, даже бедные и старые. Они могут быть не всегда
чистоплотные но всегда аккуратные. С этой точки зрения пестрые лохмотья даже
сравнительно обеспеченных эльзасских детей выглядели плачевно и французские
учителя страдали. Мы как могли выручали директора передничками негритянских
детей но передничков было мало, к тому же их нужно было приберечь для
беженцев.
Мы очень хорошо узнали Эльзас и эльзасцев, причем самых разных. Все
изумлялись тому с какой простотой заботилась о себе французская армия и
французские солдаты. В немецкой армии к такому не привыкли. С другой стороны
французские солдаты с недоверием относились к эльзасцам которые страшно
хотели быть но все же не были французами. Они не откровенные, говорили
французские солдаты. И это так и есть. Какими бы ни были французы но они
откровенны. Они очень веж-
-274-
ливые, они очень пронырливые но рано или поздно они всегда скажут
правду. Эльзасцы не вежливые, они не пронырливые и они не обязательно скажут
правду. Может быть возобновив контакты с французами они научатся всему
этому.
Мы распределяли. Мы ездили во все разоренные деревни. Обычно мы просили
священника помочь нам с распределением. У одного священника который дал нам
много полезных советов и с которым мы очень подружились осталась дома только
одна большая комната. Безо всяких ширм и перегородок он сделал из нее три, в
первой стояла мебель из его гостиной, во второй из столовой, и в третьей из
спальни. Когда мы у него обедали а пообедали мы хорошо и эльзасские вина у
него были очень хорошие, он принял нас в гостиной, потом он извинился и
удалился в спальню вымыть руки, а затем очень церемонно пригласил нас в
столовую, казалось что это старая театральная декорация.
Мы поехали домой через Мец, Верден и Милдред Олдрич.
Мы опять вернулись в другой Париж. Нам было неспокойно. Гертруда Стайн
начала очень много работать, именно тогда она написала свои Эльзасские
акценты и другие политические пьесы. Мы все еще жили под знаком работы для
фронта и отчасти продолжали ею заниматься, ходили по госпиталям и навещали
оставшихся там солдат до которых никому теперь не было дела. Мы сильно
поиздержались во время войны и теперь экономили нанять прислугу было трудно
если не невоз-
-275-
можно, цены были высокие. Пока что к нам приходила femme de ménage*
только на несколько часов в день. Я говорила что Гертруда Стайн у нас шофер
а я повар. Рано утром мы ездили на рынок за продуктами. Все перемешалось в
этой жизни.
В составе комиссии по делам мира приехала Джесси Уайтхед, она была
секретарем одной из делегаций, и конечно нам было интересно знать все о
мире. Именно тогда Гертруда Стайн назвала одного разглагольствующего
молодого человека из комиссии по делам мира человеком который знает все о
войне. Приехали родственники Гертруды Стайн, приехали все и всем было
неспокойно. Мир был беспокойный и растревоженный.
Гертруда Стайн и Пикассо поссорились. Никто из них так и не понял
толком из-за чего. Так или иначе они не виделись год а потом случайно
встретились на приеме у Адриенны Монье, Пикассо спросил, ну как дела, и
что-то насчет того не придет ли она к нему в гости. Нет не приду, мрачно
сказала она. Пикассо подошел ко мне и спросил, Гертруда говорит что она не
придет ко мне в гости, это она серьезно. Боюсь что если она это говорит то
серьезно. Они не виделись еще год а тем временем у Пикассо родился сын и
Макс Жакоб жаловался что его не позвали крестным. И совсем вскоре после того
мы были в какой-то галерее и Пикассо подошел и положил руку на плечо
Гертруды Стайн и сказал, черт возьми, будем друзьями. Конечно, сказала
Гертруда Стайн и они об-
* домработница (фр.)
-276-
нялись. Когда к вам можно прийти, спросил Пикассо, давайте подумаем,
ответила Гертруда Стайн, мы к сожалению очень заняты но приходите на ужин в
конце недели. Глупости, сказал Пикассо, мы придем на ужин завтра, и они
пришли.
Париж был другой. Гийом Аполлинер умер. Мы встречались с невероятным
количеством людей но никого из них насколько я помню мы прежде не знали.
Париж был людный. Как заметил Клайв Белл, говорят что на войне убили страшно
много народу но у меня впечатление что вдруг родилось невероятно много
взрослых мужчин и женщин.
Как я говорила было неспокойно и мы экономили, все дни и все вечера мы
с кем-то встречались и наконец был парад, торжественный марш союзников под
Триумфальной аркой.
Членам Американского Фонда помощи французским раненым полагались места
на скамьях которые поставили вдоль Елисейских полей но парижане с полным
основанием воспротивились потому что из-за этих скамей им было бы ничего не
видно и Клемансо быстро распорядился их убрать. К нашему счастью комната в
гостинице у Джесси Уайтхед выходила прямо на Триумфальную Арку и она
пригласила нас к себе смотреть парад. Мы с радостью согласились. Был
чудесный день.
Мы встали на рассвете, позднее проехать по Парижу было бы уже
невозможно. Это было одно из последних путешествий Тетушки. Красный крест к
тому времени закрасили но кузов у машины еще оставался. Очень скоро она
завершила свой славный путь и ей на смену пришла Годива, маленький
-277-
двухместный автомобиль и тоже форд. Ее назвали Годивой потому что она
вступила в мир обнаженной и все наши друзья что-нибудь нам дарили для ее
убранства.
В тот раз Тетушка совершала свое почти последнее путешествие. Мы
оставили ее у реки и по-шли пешком в гостиницу. На улицу вышли все, мужчины,
женщины, дети, солдаты, священники, монахини, мы видели как двум монахиням
помогали забраться на дерево откуда им было видно. А сами мы сидели
прекрасно и видели очень хорошо.
Мы видели все, сперва мы увидели несколько раненых из Дома Инвалидов
которые сами себя катили в своих самоходных колясках. По стариннной
французской традиции первыми на военном параде всегда идут ветераны из Дома
Инвалидов. Они все прошли маршем под Триумфальной Аркой. Гертруда Стайн
вспомнила что когда она ребенком качалась на цепях вокруг Триумфальной Арки
гувернантка говорила ей что под ней нельзя проходить потому что после 1870
года под ней проходили немецкие войска А теперь под ней шли все кроме
немцев.
Все страны шли по-разному, кто-то медленно, кто-то быстро, французы
лучше всех несут знамена, Першинг и его адъютант который шел сзади и нес
знамя пожалуй красивее всех держали дистанцию. Именно этот эпизод Гертруда
Стайн описала в сценарии фильма который она приблизительно в это время и
написала а я потом опубликовала в Географии и пьесах в простом издании.
-278-
Но все это в конце концов кончилось. Мы пошли наверх а потом мы прошли
по Елисейским полям и война кончилась и разбирали груды трофейных орудий
которые прежде стояли как две пирамиды и мир был с нами.
-279-
Часть седьмая. ПОСЛЕ ВОЙНЫ. 1919-1932
Мы постоянно, как мне сейчас видятся те времена, с кем-то знакомились.
Они сумбурны, воспоминания этих первых лет после войны и очень трудно
восстановить задним числом было ли что-то до или после чего-то еще. Пикассо,
я уже говорила что когда они с Гертруой Стайн спорили о датах однажды
сказал, вы забываете что когда мы были молодые за год происходило очень
многое. В те первые годы сразу после войны просматривая чтобы освежить
память библиографию Гертруды Стайн я поражаюсь сколько всего происходило за
год. Мы наверное были тогда не такие уж молодые но по-свету молодых было
много а это наверное то же самое. Старой компании больше не было. Матисс жил
теперь в Ницце и так или иначе хотя они с Герт-дой Стайн были когда
встречались самые что ни на есть распрекрасные друзья они почти совсем не
встречались. Это было время когда Гертруда Стайн виделась с Пикассо. Они
всегда говорили друг о с нежнейшими дружескими чувствами всякому кто прежде
знал их обоих но они не видеделись. Гийом Аполлинер умер. С Браком и его
женой мы виделись время от времени, к этому времени у них с Пикассо были
начисто испорчены отношения. Помню в какой-то вечер Мэн Рэй принес одну свою
фотографию Пикассо и был Брак.
-283-
Фотографию пустили по рукам и когда она оказалась у Брака он посмотрел
на нее и сказал наверное, я знаю этого господина, je dois connaitre ce
monsieur. Это было время, это и еще очень долгое время потом которое
Гертруда Стайн воспела под названием Как долгое время не быть друзьями.
Хуан Грис был болен и разочарован. Он был очень болен прежде и так
никогда по-настоящему и не оправился. Нужда и разочарование сделали свое
дело. Канвейлер довольно быстро после войны вернулся в Париж но все кроме
Хуана в его старой компании настолько преуспевали что он им был больше не
нужен. Милдред Олдрич уже стяжала себе огромный успех своей книгой На
взгорье у Марны, как водилось у Милдред она по-королевски потратила все свои
королевские заработки и теперь она все еще с упоением тратила хотя начинала
нервничать. Приблизительно раз в месяц мы ездили ее навещать, на самом деле
нам удавалось навещать ее регулярно до конца ее жизни. Даже в пору самой
своей величайшей славы она никому так не радовалась как она радовалась
Гертруде Стайн. На самом деле это в основном чтобы доставить удовольствие
Милдред Гертруда Стайн попыталась напечататься в Атлантик Манфли. Милдред
всегда считала и говорила что если Атлантик Манфли согласится это будет все
равно что орден в петлицу но он конечно не согласился.
Милдред еще безумно раздражало вот что. Имени Гертруды Стайн никогда не
бывало в Кто есть кто в Америке. Ведь на самом деле в английские
литературные справочники оно попало рань-
-284-
ше чем в какой-либо американский. Это очень беспокоило Милдред. Мне
противно смотреть на Кто есть кто в Америке, она говорила мне, когда я вижу
что там есть вся эта мелюзга а Гертруды нет. И затем она говорила, я понимаю
что страшного ничего нет но мне бы хотелось чтобы Гертруда не была таким
изгоем. Бедная Милдред. И вот теперь как раз в этом году по какой-то ей
одной известной причине редакция Кто есть кто в Америке включила Гертруду
Стайн в свои списки, Атлантик Манфли ясное дело нет.
С Атлантик Манфли вышло довольно странно.
Как я уже говорила Гертруда Стайн послала в Атлантик Манфли несколько
рукописей совершенно не надеясь что их примут, но если бы каким-то чудом их
приняли ей было бы просто приятно а Милдред очень приятно. Пришел ответ,
длинный и довольно обстоятельный аргументированный ответ из редакции. Решив
что от редакции писала какая-нибудь бостонка, Гертруда Стайн пространно
ответила мисс Эленн Седгвик. Она получила почти немедленный ответ в котором
на все ее доводы выдвигались возражения и в то же время допускалось что
предложение не лишено интереса но что конечно нельзя оскорбить чувства
читателей Атлантик Манфли поместив эти вещи в журнале, но вероятно они
сочтут возможным напечатать их с чьим-нибудь предисловием в рубрике под
названием, если я правильно помню, Авторский клуб. В заключение говорилось
что автора письма зовут не Эллен а Эллери Седгвик.
-285-
Гетруда Стайн разумеется была счастлива что она не Эллен а Эллери и
соглашалась чтобы еЕ печатали в Авторском клубе, но разумеется и то что вещи
не вышли даже в рубрике под названием Авторский клуб.
Мы стали все время знакомиться с новыми людьми.
Кто-то сказал нам, забыла кто, что одна американка открыла в нашем
квартале английскую библиотеку. Тогда мы из экономии не пользовались Мюди,
немного книг мы получали из Американской библиотеки, но Гертруде Стайн этого
было мало. Мы стали наводить справки и нашли Сильвию Бич. Сильвия Бич была
большой поклонницей Гертруды Стайн и они подружились. Она была первым
круглогодичным подписчиком Сильвии Бич и Сильвия Бич была в должной мере
горда и благодарна Ее небольшая библиотека была на маленькой улочке возле
Есо1е de Medicine*. Американцев тогда к ней ходило мало. Ходил автор Биби
Бибииста, ходила племянница Марселя Швоба и несколько случайных ирландских
поэтов. Мы много виделись с Сильвией в те времена, она часто бывала у нас и
она ездила с нами за город на старой машине. Мы познакомились с Адриенной
Монье и она привела Валери Ларбо и все они очень интересовались Тремя
жизнями а Валери, как мы поняли, думала их переводить. Это в то время в
Париж приехал Тристан Тзара. Его появление очень взволновало Адриенну Монье.
Пикабиа нашел его в Швейцарии во
* Медицинский факультет (фр.)
-286-
время войны и они вместе создали дадаизм, а из дадаизма, с большим
трудом и скандалами, произошел сюрреализм.
Тзара пришел к нам, кажется его привел Пикабиа но точно я не уверена
Мне всегда было трудно понять рассказы о его грубости и порочности, по
крайней мере трудно было тогда, потому что когда Тзара пришел к нам он сидел
за чаем рядом со мной и беседовал как милый и не очень занимательный
родственник.
Адриенна Монье хотела чтобы Сильвия переехала на рю дель Одеон а
Сильвия раздумывала но в конце концов переехала и потом мы виделись с ней на
самом деле не очень часто. Сразу как Сильвия переехала они устроили прием и
мы были и Гертруда Стайн тогда впервые узнала что у нее есть молодые
почитатели в Оксфорде. На приеме было несколько молодых людей из Оксфорда и
они были ужасно рады знакомству с нею и попросили у нее какие-нибудь
рукописи и в том же. девятьсот двадцатом году напечатали их в Оксфорд
Магазин.
Время от времени Сильвия Бич приводила сразу по нескольку человек, по
нескольку человек молодых писателей и с ними дам более солидного возраста
Это в то время пришел Эзра Паунд, нет, он появился как-то иначе. Потом она
приходить перестала но она прислала записку что в Париже Шервуд Андерсон
который хочет видеть Гертруду Стайн и можно ли он придет. Гертруда Стайн
запиской ответила что ей будет очень приятно и он пришел со своей женой и
музыкальным критиком Розенфельдом
-287-
Меня почему-то в тот раз не было, по всей вероятности какие-нибудь
семейные осложнения, во всяком случае когда я все-таки пришла Гертруда Стайн
была на редкость растрогана и обрадована. Гертруда Стайн была тогда немного
раздражительна, все ее неопубликованные рукописи и никакой надежды на
публикацию или серьезное признание. Шервуд Андерсон пришел и со всей
свойственной ему простотой и прямотой сказал ей о том что он думает о ее
творчестве и о том что оно значило для его писательского развития. Тогда он
сказал об этом ей и что было случаем еще более редким сразу же сказал об
этом в печати. Гертруда Стайн и. Шервуд Андерсон всегда были самыми добрыми
друзьями но думаю даже он не представляет себе как много для нее значил его
приход. Это он позднее написал предисловие к Географии и пьесам.
В те времена знакомились с кем угодно и где угодно. Джуэтсы были
американской парой у которой был замок десятого века под Перпиньяном. Мы с
ними познакомились там во время войны и когда они приехали в Париж мы к ним
пошли. Там мы познакомились сначала с Мэном Рэем а потом с Робертом Коутсом,
как там оказались и тот и другой я не знаю.
Когда мы пришли было много народу и Гертруда Стайн вскоре разговорилась
с невысоким человеком который сидел в углу. Когда мы уходили она условилась
с ним о встрече. Она сказала что он фотограф и кажется интересным и
напомнила что Жанна Кук, жена Уильяма Кука, просила у нее
-288-
фотографию чтобы послать родне Кука в Америку. Мы пошли все втроем к
Мэну Рэю в гостиницу. Это была одна из этих маленьких гостиниц на рю Деламбр
и Мэн Рэй занимал одну из этих крошечных комнат, но я никогда не видела
чтобы где-нибудь, даже в каюте корабля, было так много вещей и чтобы эти
вещи были так прекрасно расставлены. У него была кровать, у него было три
большие камеры, у него было несколько разных ламп, у него был экран на окно,
а в маленьком шкафу он проявлял пленки. Он показал фотографии Марселя Дюшана
и многих других и спросил можно ли ему прийти поснимать мастерскую и
Гертруду Стайн. Он пришел и поснимал и меня и мы остались очень довольны
результатом. Он в разное время фотографировал Гертруду Стайн и она всегда
восхищается тем как он использует лампы. Однажды она сказала ему что из ее
фотографий больше всех она любит те которые снимал он, кроме разве что
одного моментального снимка который недавно сделала я. Это как будто
обеспокоило Мэна Рэя. Вскоре он попросил ее прийти дозировать и она пришла.
Он сказал, двигайте чем. Хотите, глазами, головой, это будет поза но у нее
будут все качества моментального снимка. Держать позы нужно было очень
долго, она, как он просил, двигалась и результат, последние ее фотографии
которые он отснял, получился необычайно интересным.
С Робертом Коутсом мы познакомились в те Давние времена сразу после
войны тоже у Джуэт-сов. Я помню тот день очень хорошо. Это был хо-
-289-
лодный мрачный день на последнем этаже гостиницы. Были какие-то молодые
люди и вдруг Гертруда Стайн сказала что она забыла включить фары у машины а
ей не хочется опять платить штраф, только что нас оштрафовали потому что я
просигналила полицейскому чтобы он не стоял на дороге и один раз ее
оштрафовали потому что она не с той стороны объехала столб. Хорошо, сказал
рыжий молодой человек и мигом спустился вниз и поднялся обратно. Фары горят,
объявил он. Как вы узнали которая машина моя, спросила Гертруда Стайн. Я
знал, ответил он. Нам всегда нравился Коутс. Удивительно как редко бродя по
Парижу встречаешь знакомых на улице, но Коутса мы встречали часто, с
непокрытой рыжей головой и в самых неожиданных местах.
Это было время как раз накануне Брума а о Бруме я расскажу очень скоро,
и когда Коутс показал Гертруде Стайн что он пишет она сразу же очень
всерьез им заинтересовались. Она говорила что он единственный молодой
человек у которою есть индивидуальный ритм, его слова звучат для глаза, у
большинства они не звучат. Нам нравился и адрес Коутса, Ратуша на острове, и
сам по себе он нам нравился.
Гертруду Стайн привел в восхищение Проект исследования который он
подготовил для конкурса на премию Гугенхейма. К сожалению Проект
исследования, совершенно прелестная повесть с эпизодическим героем Гертрудой
Стайн, не получил премии.
Как я уже говорила был Брум.
-290-
До войны мы были знакомы, не то чтобы очень хорошо а немного знакомы с
одним молодым парнишкой, Элмером Харденом который учился в Париже в
консерватории. Во время войны мы узнали что Элмер Харден пошел во
французскую , армию и был тяжело ранен. Это была довольно поразительная
история. Элмер Харден ухаживал за французскими ранеными в американском
госпитале и один из его пациентов, капитан с сильно покалеченной рукой,
собирался возвращаться на фронт. Элмер Харден уже не мог довольствоваться
уходом за ранеными. Он сказал капитану Питеру, поеду с вами. Но так же не
положено, сказал капитан Питер. А я все равно поеду, упрямо сказал Элмер. И
вот они взяли такси и поехали в военное министерство и к дантисту и не знаю
куда еще но к концу недели капитан Питер вернулся в строй а Элмер Харден
служил солдатом в его полку. Он хорошо сражался и был ранен. Мы опять с ним
встретились после войны а потом мы встречались часто. Он и чудесные цветы
которые он прислал были нашей большой отрадой в те времена сразу после
наступления мира. Мы с ним всегда говорим что в нашем поколении мы с ним
последние кто будет помнить войну. Боюсь мы оба уже немного ее подзабыли.
Впрочем на днях Элмер заявил что он одержал большую победу, он заставил
капитана Питера, а капитан Питер бретонец, признать что это была хорошая
война. Когда до того раза он говорил капитану Питеру, это была хорошая
война, капитан Питер не отвечал но в этот раз когда Элмер сказал, это была
хорошая
-291-
война, капитан Питер ответил, да Элмер, это была хорошая война.
Кейт Басс была из одного города с Элмером, из Медфорда в Массачусетсе.
Она была в Париже и она к нам пришла. По-моему Элмер нас с ней не знакомил
но она к нам пришла. Она очень интересовалась творчеством Гертруды Стайн и
все что к тому времени можно было купить она покупала. Она привела
Креймборга. Креймборг приехал в Париж вместе с Гарольдом Лебом основывать
Брум. Креймборг и его жена приходили часто. Он очень хотел опубликовать в
нескольких номерах Длинную веселую книгу, ту которую Гертруда Стайн написала
сразу после Становления американцев. Гарольд Леб конечно не соглашался.
Креймборг с большим чувством читал вслух предложения из этой книги. Не одни
взаимные симпатии связывали его с Гертрудой Стайн потому что издательство
Графтон Пресс которое напечатало Три жизни напечатало его первую книгу и
приблизительно в то же время.
Кейт Басс привела очень много народу. Она привела Джуну Барнс и Мину
Лой а они хотели привести Джеймса Джойса но не привели. Мы обрадовались Мине
которую знали по Флоренции как Мину Хавейс. Мина привела Гленуэя Уэскота
который впервые путешествовал по Европе. Гленуэй нас очень поразил своим
английским произношением. Хемингуэй объяснил. Он сказал, когда вы поступаете
в Чикагский университет вы просто пишете какое именно произношение вы хотите
и вам его выдают вместе с дипломом. Можно произ-
-292-
ношение шестнадцатого века а можно современное, какое угодно. Гленуэй
забыл у нас шелковый портсигар со своими инициалами, мы его сохранили и
отдали ему когда он пришел опять.
Мина еще привела Роберта Мак Альмона Роберт Мак Альмон был в те времена
очень милый, очень зрелый и очень красивый. Много позже он опубликовал в
Контакт Пресс Становление американцев и все поссорились. Но таков Париж,
только вот они с Гертурдой Стайн на самом деле так и не помирились.
Кейт Басс привела Эрнеста Уолша, он был тогда очень молодой и очень
нервный и она очень за него беспокоилась. Потом мы его встречали с
Хемингуэем а потом в Белле, но близко его никогда не знали.
Мы познакомились с Эзрой Паундом у Грэйс Лаунсбери, он пошел к нам
ужинать и он сидел и говорил в том числе о японских гравюрах. Гертруде
Стайн он понравился но занятным не показался. Она сказала что он деревенский
просветитель, прекрасный если вы из деревни но если нет то нет. Еще Эзра
говорил о Т. С. Элиоте. Это был первый раз когда в нашем доме говорили о Т.
С. Элиоте. Очень скоро все говорили о Т. С. Китти Басс о нем говорила и
много позже о нем как о Главном говорил Хемингуэй. Значительно позже о нем
говорила леди Ротермир и она пригласила Гертруду Стайн прийти с ним
познакомиться. Они основывали Критерион. С леди Ротермир мы познакомились
через Мюриэл Дрейпер с которой мы впервые снова встретились после
многолетнего перерыва Гертру-
-293-
да Стайн не особенно жаждала идти к леди Ротермир знакомиться с Т. С.
Элиотом но мы все настаивали и она неуверенно согласилась. У меня не было
подобающего случаю вечернего туалета и я принялась его шить. Раздался звонок
и вошли леди Ротермир и Т. С.
У Элиота и Гертруды Стайн состоялась церемонная беседа, в основном о
расщепленных инфинитивах и других грамматических солецизмах и о том почему
Гертруда Стайн их использует. Наконец леди Ротермир и Элиот встали собираясь
уходить и Элиот сказал что если он будет печатать в Критерионе Гертруду
Стайн это должно быть ее самое последнее произведение. Они ушли и Гертруда
Стайн сказала, не трудитесь дошивать ваше платье, теперь никуда не надо
идти, и она начала писать портрет Т. С. Элиота под названием Пятнадцатое
ноября, день когда это было, так что сомнений в том что это ее последнее
произведение быть не могло. Оно было все в таком духе что шерсть это шерсть
а шелк шелковый или что шерсть шерстяная а шелк шелковый. Она послала его Т.
С Элиоту и он принял его но естественно не напечатал.
Потом началась долгая переписка, не между Гертрудой Стайн и Т. С.
Элиотом а между секретарем Т. С. Элиота и мной. Мы обе обращались друг к
другу сэр, я подписывалась А. Б. Токлас а она только инициалами. Лишь
значительно позже я узнала что его секретарь не молодой человек. Не знаю
узнала ли когда-нибудь она что и я нет.
Несмотря на всю эту переписку ничего не происходило и Гертруда Стайн
злонамеренно расска-
-294-
зывала эту историю всем англичанам, которые бывали в доме а тогда их
бывало много. Так или иначе в конце концов пришло короткое письмо из
Критериона, это было ранней весной, с вопросом (возражает ли Гертруда Стайн
если ее материал выйдет в октябрьском номере. Она ответила что Пятнадцатое
ноября пятнадцатого октября как нельзя более уместно.
Снова долгое молчание а потом на этот раз пришла корректура Мы
удивились но корректуру вернули быстро. По-видимому ее без спросу послал
какой-то молодой человек потому что очень скоро пришло письмо с извинениями
в котором говорилось, что произошла ошибка, пока что статья не идет в
печать. Это тоже рассказывалось захожим англичанам и в итоге ее в конце
концов печатали. Потом ее напечатали еще раз в Георгианских рассказах.
Гертруда Стайн умилилась когда ей потом передали как Элиот в Кембридже
сказал Гертруда Стайн пишет очень хорошо но не для нас.
Но вернемся к Эзре. Эзра вернулся и вернулся с редактором Дайл. На этот
раз было хуже чем с японскими гравюрами, было намного резче. Удивленный этой
резкостью Эзра свалился с любимого маленького кресла Гертруды Стайн, того
которое я вышила по рисунку Пикассо, и Гертруда Стайн разозлилась. Наконец
Эзра с редактором Дайл ушли, всем было не слишком приятно. Гертруда Стайн не
хотела больше видеться с Эзрой. Эзра не видел причин не видеться. Однажды он
встретил ее возле Люксембургского сада и сказал, но я действи-
-295-
тельно хочу с вами увидеться. Мне очень жаль, ответила Гертруда Стайн,
но у мисс Токлас болит зуб а кроме того мы собираем полевые цветы и мы
заняты. В буквальном смысле и то и другое бы правдой, как в каждой букве то
что пишет Гертруда Стайн, но это опечалило Эзру. Больше мы его никогда не
видели.
В эти месяцы после войны мы шли однажды; по маленькой улочке и увидели
человека который заглядывал в окна и ходил взад и вперед и из стороны в
сторону и вообще вел себя странно. Липшиц, сказала Гертруда Стайн. Да,
ответил Липшиц, я покупаю железного петуха. Где он, спросили мы. Да вот же,
ответил он, и там он и был. Одно время' Гетруда Стайн была немного знакома с
Липшицем но после этого случая они подружились и вскоре он попросил ее
позировать. Он только что закончил бюст Жана Кокто и он хотел изваять ее.
Она никогда не отказывается от позирования, она в нем любит покой и хотя она
не любит скульптуру и так и сказала Липшицу она начала позировать. Помню
весна была очень жаркая и у Липшица в мастерской было чудовищно жарко а они
там сидели часами.
Липшиц мастер злословить а Гертруда Стайн обожает начало, середину и
конец сплетни и Липшиц сумел восполнить некоторые недостающие части
некоторых сплетен. А потом они говорили об искусстве и Гертруде Стайн очень
понравился ее портрет и они очень дружили и сеансы кончились.
Однажды мы поехали смотреть выставку на другом конце города и какой-то
человек подошел
-296-
к Гертруде Стайн и что-то ей сказал. Она ответила, вытирая лоб, жарко.
Он сказал что он знакомый Липшица и она сказала, да у него было жарко.
Липшиц сделал несколько фотографий головы и должен был их принести но не
принес, а мы были страшно заняты и Гертруда Стайн иногда спрашивала почему
же Липшиц не приходит. Эти фотографии кому-то понадобились и она написала
ему чтобы он их принес. Он пришел. Она спросила, почему же вы раньше не
приходили. Он ответил что раньше он не приходил потому что кто-то кому это
сказала она сказал ему что ей было скучно когда она ему позировала. Черт
возьми, сказала она, обо мне прекрасно известно что я говорю обо всех и вся,
я говорю о человеке, я говорю в лицо человеку, я говорю когда хочу и что
хочу, но в основном я говорю то что думаю, так что вы или кто угодно хотя бы
можете довольствоваться тем что говорю вам я. Он как будто вполне этим
удовольствовался и они мило и спокойно поговорили и сказали друг другу à
bientôt, скоро увидимся. Липшиц ушел и несколько лет мы его не видели.
Потом объявилась Джейн Хип и захотела повезти работы Липшица в Америку
и захотела чтобы Гертруда Стайн пришла их отбирать. Как же я приду, сказала
Гертруда Стайн, когда Липшиц совершенно явно сердится, почему и отчего я
безусловно ни малейшего представления не имею но он сердится. Джейн Хип
сказала что Липшиц сказал что он почти никого так не любит как он любит
Гертруду Стайн и убит тем что они больше не видятся. О, сказала Гертруда
Стайн, я очень его люб-
-297-
лю. Я обязательно пойду с вами. Она пошла, о нежно обнялись и провели
счастливые часы и в отместку она только Липшицу сказала при расставании, à
très bientôt*. А Липшиц ответил, comme vous êtes méchante** С тех пор они
самые распрекрасные друзья и с Липшица Гертруда Стайн написала один из самых
прелестных своих портретов но они никогда не говорили о ссоре и если знает
что произошло во второй раз то она нет.
Это через Липшица Гертруда Стайн вновь встретилась с Жаном Кокто.
Липшиц сказал Гетртруде Стайн а она этого не знала, что Кокто в своем
Потомаке говорил о Портрете Мейбл Додж и его цитировал. Ей было. естественно
очень приятно потому что Кокто был первый французский писатель который
говорил о ее творчестве. Они встречались раз или два и у них завязалась
дружба которая состоит в том что они довольно часто дру другу пишут и ужасно
друг другу нравятся и имеют много общих молодых и старых друзей, но не в том
что они встречаются.
Джо Дэвидсон тоже в это время ваял Гертруду Стайн. Там все было
спокойно, Джо был занятный и остроумный и он был приятен Гертруде Стайн. Не
помню кто приходил, то ли это были живые люди, то ли изваяния, но было очень
много народу. Был в том числе Линкольн Стеффенс и каким-то странным образом
с ним связывается начало наших частых встреч с Дженет Скадер но каким именно
образом я не помню.
* До скорого свидания (фр.)
** Какая вы злая (фр.)
-298-
Тем не менее я очень хорошо помню как я впервые услышала голос Дженет
Скадер. Это было давным-давно когда я только приехала в Париж и у нас с
подругой была небольшая квартира на рю Нотр-Дам де Шам. Видя как
воодушевлены другие и оттого сама воодушевившись, подруга купила картину
Матисса и ее как раз повесили на стену. К нам зашла Милдред Олдрич, был
теплый весенний день и Милдред выглянула из окна. Вдруг я услышала как она
говорит, Дженет, Дженет, поднимайся. А что, спросил очень красивый тягучий
голос. Хочу чтобы ты сюда поднялась и познакомилась с моими приятельницами
Харриет и Алисой и хочу чтобы ты поднялась и посмотрела их новую квартиру.
А-а, сказал голос. А затем Милдред сказала, и у них новый большой Матисс.
Поднимись посмотри. Наверное нет, сказал голос.
Дженет все-таки видела много Матисса потом когда он жил за городом в
Кламаре. И они с Гертрудой Стайн всегда дружили, по крайней мере с тех пор
как они начали много видеться.
Как и доктор Кларибел Коун, Дженет, всегда утверждая что она ничего в
этом не понимает, читает и чувствует Гертруду Стайн и читает ее вслух с
большим пониманием
Впервые со времен войны мы собрались поехать в долину Роны а Дженет с
приятельницей на такой же Годиве должны были ехать с нами. Очень скоро я об
этом расскажу.
Еще все эти тревожные месяцы мы добивались чтобы Милдред Олдрич дали
орден Почетного легиона. Когда война кончилась очень многие из
-299-
тех кто занимался работой по содействию фронту получили орден Почетного
легиона но все они входили в какие-нибудь организации а Милдред не входила.
Гертруда Стайн очень хотела чтобы его дали Милдред. Во-первых она считала
что ей положено, никто столько не сделал для пропаганды Франции сколько она
своими книгами которые читала вся Америка, а кроме того она знала что
Милдред будет приятно. И вот мы начали кампанию. Это оказалось не так-то
легко потому что организации естественно имели больше всего влияния. Мы
вовлекли разных людей. Мы начали составлять списки выдающихся американцев и
просили их подписать. Они не отказывались, но список как таковой это не
достижение а лишь средство достижения результата Очень много посредничал
мистер Джаккачи, большой поклонник мисс Олдрич, но всем людям которых он
знал сперва самим что-то было нужно. Нам удалось заинтересовать Американский
легион по крайней мере двух полковников но у них тоже сперва были на очереди
другие лица. Мы у всех были и со всеми говорили и всех заинтересовали и все
обещали и ничего. В конце концов мы познакомились с сенатором Он выразил
готовность помочь но тогда сенаторы были заняты а потом мы однажды
познакомились с секретаршей сенатора Гертруда Стайн подвезла секретаршу
сенатора домой на Годиве.
Как выяснилось секретарша сенатора пробовала научиться водить машину и
не смогла То что Гертруда Стайн двигалась в потоке парижского транспорта с
легкостью и равнодушием професси-
-300-
онального водителя и вместе с тем была известной писательницей
произвело на нее сильнейшее впечатление. Она сказала что вынет бумаги
Милдред Олдрич из ячейки где они вероятно лежат и вынула. Очень скоро к
Милдред пришел по официальному делу мэр ее деревни. Он дал ей подписать
предварительные документы на получение ордена Почетного легиона Он сказал
ей, не забывайте, мадемуазель что такие дела часто начинаются но не
доводятся до конца. Так что вы должны быть готовы к разочарованию, Милдред
спокойно ответила, monsieur le maire*, если это дело начали мои друзья то
они позаботятся о том чтобы оно было доведено до конца. И оно было. Когда по
дороге в Сен-Реми мы приехали в Авиньон нас ждала телеграмма и мы узнали что
Милдред получила свою награду. Нам было очень приятно а Милдред Олдрич до
последнего дня своей жизни испытывала гордость и радость за свой почет.
В те первые тревожные послевоенные годы Гертруда Стайн очень много
работала Не так как в прежние времена, ночами, а где угодно, в промежутках
между визитами, в автомобиле пока она ждала на улице а я ходила по делам,
пока позировала. Особенно в те времена она любила работать в автомобиле
когда он стоял на оживленных улицах.
Это тогда она в шутку написала Лучше Меланкты. Гарольд Леб, издававший
в то время Брум совершенно один, сказал что ему бы хотелось по-
* Господин мэр (фр.)
-301-
лучить что-нибудь не хуже Меланкты, ее ранней негритянской повести из
Трех жизней.
На нее очень действовали уличный шум и движение автомобилей. Еще она
тогда любила взять какое-нибудь предложение как бы в качестве камертона и
метронома а потом писать на этот ритм и мотив. Мысли Милдред, опубликованные
в Американском караване, были одним из очень удачных на ее взгляд
экспериментов такого рода. Другим была Родина бонн опубликованная в Литл
Ревью. Нравоучительные повести 1920-1921 годов Американская биография и Сто
знаменитых мужчин, когда как она сказала она выдумала из головы сто мужчин,
всех одинаково мужчин, и всех одинаково знаменитых, тогда и были написаны.
Последние две вещи были потом напечатаны в Полезных знаниях.
В это же приблизительно время в Париж ненадолго вернулся Гарри Гибб. Он
очень хотел чтобы Гертруда Стайн выпустила книгу по которой было бы видно
чем она занималась в те годы. Не маленькую книжку, повторял он, большую
книгу, в которой было бы за что ухватиться. Обязательно этим займитесь,
говорил он. Но Джон Лейн теперь отошел от дел и ни один издатель на нее не
посмотрит, сказала она. Неважно, резко ответил Гарри Гибб, нужно чтобы
увидели главное вы должны напечатать много вещей, а потом, обернувшись ко
мне он сказал, Алиса, займитесь-ка этим вы. Я понимала что он прав и что
этим надо заняться. Но как.
Я поговорила с Кейт Басс и она предложила Компанию четырех морей
которая выпустила ее
-302-
собственную небольшую книжку. У меня завязалась переписка с мистером
Брауном. С Клянусь Богом как называла его Гертруда Стайн переняв выражение
Уильяма Кука когда все шло особенно скверно. Договорившись наконец с Клянусь
Богом, в июле двадцать второго года мы поехали на Юг.
Мы отправились в путь на Годиве, том самом маленьком форде, и в
сопровождении Дженет Скадер которая ехала за нами на другой Годиве в
обществе миссис Лейн. Они ехали в Грасс покупать дом, в конце концов они
купили дом в Экс-ан-Провансе. А мы ехали в Сен-Реми чтобы в мире увидеть тот
край который мы полюбили в войну.
Мы отъехали только километров на сто от Парижа как Дженет Скадер дала
гудок, это у нас был условный сигнал означавший стой и жди. Подошла Дженет.
По-моему, серьезно сказала она, Гертруда Стайн всегда называла ее наш
парень, она всегда говорила что на свете есть две совершенно серьезные вещи,
это наши парни солдаты и Дженет Скадер. Дженет, всегда говорила Гертруда
Стайн, еще присущи вся тонкость нашего парня и все его милые привычки и все
его одиночество. По-моему, сказала Дженет, мы поехали не по той дороге,
здесь написано Париж -- Перпиньян а мне надо в Грасс.
Во всяком случае в тот раз мы доехали только до Аорма и там мы вдруг
поняли как мы устали. Мы просто устали.
Мы предложили остальным ехать в Грасс но они сказали что они подождут и
мы все подожда-
-303-
ли. Это был первый раз после Пальма де Майорка, после 1916 года, когда
мы просто спокойно жили. Наконец мы не спеша двинулись в Сен-Реми а они
съездили в Грасс и обратно. Они спросили что мы собираемя делать и мы
ответили, ничего просто здесь поживем. Тогда они снова уехали и купили дом в
Экс-ан-Провансе.
Дженет Скадер, как всегда говорила Гертруда Стайн, обуревала страсть
истинного пионера к приобретению ненужной недвижимости. В каждом городке где
мы останавливались по дороге Дженет обязательно находила дом который она
готова была купить а Гертруда Стайн, решительно возражая, уводила ее прочь.
Она хотела купить дом всюду но только не в Грассе куда она уже ездила
покупать дом. В конце концов она все-таки купила дом с участком в
Экс-ан-Провансе, настояв прежде на том чтобы его посмотрела Гертруда Стайн
которая сказала не покупать, телеграфировала, не надо, и позвонила, не надо.
Дженет все же купила но к счастью через год сумела от него избавиться. Этот
год мы тихо прожили в Сен-Реми.
Мы собирались прожить там только месяц-два а прожили всю зиму. Не
считая эпизодического обмена визитами с Дженет Скадер мы не видели никого
кроме местных жителей. Мы ездили в Авиньон за покупками, мы ездили временами
смотреть места которые так хорошо прежде знали, но больше мы бродили по
Сен-Реми, мы поднимались в Малые Альпы, невысокие холмы которые Гертруда
Стайн снова и снова описывала в вещах написанных той зимой, мы смотрели как
уходят в горы огромные
-304-
овечьи стада ведомые ослами нагруженными бурдюками с водой, мы сидели
над римскими памятниками и мы часто бывали в Ле Во. Гостиница была не очень
удобная но мы продолжали там жить. Нас опять зачаровывала магия долины Роны.
Это той зимой Гертруда Стайн размышляла над использованием грамматики,
поэтическими формами и над тем что можно было бы назвать пейзажными пьесами.
Это в то время она написала Толкование, напечатаное в Транзишн в
двадцать седьмом году. Это была ее первая попытка изложить свое понимание
проблем выражения и ее попытка их разрешить. Это была ее первая попытка ясно
понять в чем смысл ее творчества и почему оно такое какое оно есть. Позже
много позлее она написала свои трактаты о грамматике, предложениях, абзацах,
словаре и так далее, а я напечатала их в Простом издании в разделе Как
писать.
Это в Сен-Реми и той зимой она написала стихи которые так сильно
повлияли на молодое поколение. Ее Столицы столиц Вирджил Томпсон положил на
музыку. На подхвате были Четыре религии, они напечатаны в Полезных знаниях.
Эта пьеса всегда ее чрезвычайно интересовала, это был первый опыт из
которого потом выросли Оперы и пьесы, первый замысел пейзажа как пьесы.
Также в то время она написала Письмо Шервуду Андерсону ко дню святого
Валентина, также напечатанное в сборнике Полезные знания, Маленькою индейца
позднее напечатанного в Ревьюэр (Карл
-305-
Ван Ветхен направил к нам Хантера Стэгга, молодого южанина не менее
привлекательного чем его имя), и Святых в семи, на примере которых она
разбирала свою прозу на лекциях в Оксфорде и Кембридже, и Беседы со святыми
в Сен-Реми.
Она работала в те времена сосредоточенно и с медлительной тщательностью
и была очень поглощена работой.
В конце концов мы получили сигнальные экземпляры Географии и пьес, зима
кончилась и мы вернулись в Париж.
Эта долгая зима в Сен-Реми сняла тревогу военных и послевоенных лет.
Впереди было много событий, впереди была дружба и была вражда и впереди было
много чего еще но не было впереди тревоги.
Гертруда Стайн всегда говорила что у нее есть только два настоящих
развлечения, картины и машины. Наверное теперь она может прибавить собак.
Сразу после войны ее внимание привлек молодой французский художник,
Фабр, у него было естественное ощущение предметов на столе и пейзажей но из
него ничего не вышло. Следующий художник который привлек ее внимание был
Андре Массон. На Массона в то время влиял Хуан Грис а к нему у Гертруды
Стайн интерес был неизменный и кровный. Андре Массон интересовал ее как
художник особенно как художник пишущий белым и ее интересовала его
композиция блуждающая линия в его композициях. Вскоре Массон попал под
влияние сюрреалистов.
-306-
Сюрреалисты это опошление Пикабиа как Делоне и его последователи и
футуристы были опошлением Пикассо. Пикабиа когда-то себе замыслил и теперь
мучительно решает задачу чтобы линия дрожала как музыкальная нота и дрожала
бы оттого что формы тела и лицо человека мыслятся настолько зыбко что линия
которая их образует в результате начинает дрожать. Это его путь чтобы
достичь отвлеченности. Это из этой идеи "зародился математичный Марсель
Дюшан и родилась его Обнаженная спускающаяся по лестнице.
Всю свою жизнь Пикабиа мучительно бился над тем чтобы совладать с этим
замыслом и его воплотить. Гертруда Стайн думает что теперь он может быть
приближается к решению своей задачи. Сюрреалисты, по обыкновению опошлителей
принимая форму за содержание, полагают линию уже дрожащей и потому самою по
себе способной вдохновить их к высоким полетам. Он же, в недолгом будущем
создатель дрожащей линии, знает она еще не создана и даже если бы она была
создана то существовала бы не сама по себе а в зависимости от эмоции
вызывающего дрожание предмета. Вот пока все о создателе и его
последователях.
Гертруда Стайн, в своем творчестве, всегда была одержима
интеллектуальной страстью к точности описания внутренней и внешней
реальности. Таким сгущением она добилась упрощения, а в результате
разрушения ассоциативной эмоциональности в поэзии и прозе. Она понимает что
красота, музыка, убранство, результаты чувства, никогда
-307-
не должны быть причиной, даже события не должны быть причиной чувства
как они не должны быть материалом поэзии и прозы. Как само чувство не должно
быть причиной поэзии и прозы. Поэзия и проза должны заключаться в точном
воспроизведении или внешней или внутренней реальности.
Это благодаря мыслимой таким образом точности Гертруда Стайн и Хуан
Грис хорошо понимали друг друга.
Хуан Грис тоже мыслил точность но у него точность имела мифическое
основание. Как мистику, ему требовалось быть точным У Гертруды Стайн
потребность была интеллектуальной, чистая страсть к точности. Вот почему ее
творчество часто сравнивалось с творчеством математиков а одним французским
критиком с творчеством Баха.
У Пикассо, самого одаренного от природы, было менее ясное сознание
цели. В его творчестве было сильное ритуальное начало, сперва испанское,
потом негритянское выраженное в негритянской скульптуре (а ее арабская
основа это основа и испанского ритуала) а потом русское. Поскольку
творческое начало было в нем необыкновенно сильным, он воссоздал эти великие
ритуалы по собственному образу и подобию.
Хуан Грис был единственным человеком который мешал Пикассо своим
присутствием. У них были именно такие отношения.
В то время когда дружба между Гертрудой Стайн и Пикассо стала если
такое возможно теснее прежнего (это для его сынишки который ро-
-308-
дился четвертого для нее третьего февраля она сочинила деньрожденную
книгу со строчкой на
каждый день в году), в это время ее близость с Хуаном Грисом была ему
неприятна Однажды после выставки Хуана в Галери Симон он резко спросил,
скажите почему вы его хвалите, вы же знаете что он вам не нравится; и она не
ответила
Потом когда Хуан умер и Гертруда Стайн была безутешна Пикассо пришел к
нам и просидел целый день. Не знаю что говорилось но знаю что один раз
Гертруда Стайн горько ему сказала, вы не имеете права скорбеть, а он
ответил, вы не имеете права мне это говорить. Вы никогда не понимали его
значения потому что не понимали его, сердито сказала она. Вы прекрасно
знаете что это не так, ответил он.
Самое трогательное из всего что написала Гертруда Стайн это Жизнь и
смерть Хуана Гриса. Она была напечатана в Транзишн а позднее к его
ретроспективной выставке в Берлине переведена на немецкий.
Пикассо никогда не мешало присутствие Брака. Пикассо сказал однажды в
разговоре с Гертрудой Стайн, да Брак и Джеймс Джойс, это двое непостижимых
понятных всякому. Les incomprehensibles que tout le monde peut comprendre.
Первое что случилось по приезде в Париж это Хемингуэй с
рекомендательным письмом от Шервуда Андерсона.
Я очень хорошо помню какое впечатление произвел на меня Хемингуэй в тот
первый день. Это
-309-
был необычайно привлекательный внешне молодой человек двадцати трех
лет. Потом очень скоро всем было двадцать шесть. Настала эпоха
двадцатишестилетия. Следущие два-три года всем молодым людям было по
двадцать шесть. По-видимому этот возраст очень подходил времени и месту.
Были один-двое моложе двадцати, например Джордж Лайнз, но они, как им
недвусмысленно разъяснила Гертруда Стайн, не считались. Если это были
молодые люди им было двадцать шесть. Потом, намного позже, им стало двадцать
один и двадцать два.
Итак Хемингуэю было двадцать три, у него была скорее выделяющаяся
внешность и скорее исполненные страстного интереса чем интересные глаза Он
сидел напротив Гертруды Стайн и смотрел и слушал.
Они говорили тогда еще и еще, очень долго. Он попросил ее провести один
вечер у них и посмотреть что он пишет. У Хемингуэя тогда было и всегда
бывает хорошее чутье на квартиры в неожиданных но приятных местах и хороших
femmes de menage* и хорошие рестораны. Эта его первая квартира была рядом с
Плас дю Тертр. Мы провели у них один вечер и Гертруда Стайн посмотрела все
что он к тому времени написал. Он уже начал тот роман который он должен был
неизбежно начать, а еще были маленькие стихотворения, которые Мак Альмон
потом напечатал в Контакт Эдишн. Стихотворения Гертруде Стайн вполне
понравились, они были прямые, киплинговские, но
* Домашняя прислуга (фр.)
-310-
романы она нашла что не дотягивают. В них очень много описаний, сказала
она, и описаний не самых лучших. Начните сначала и сосредоточьтесь, сказала
она
Хемингуэй работал тогда парижским корреспондентом одной канадской
газеты. Он был обязан в ней выражать канадскую, как он это называл, точку
зрения.
Они с Гертрудой Стайн много вместе гуляли и разговаривали. Однажды она
сказала ему, послушайте, вы говорите что у вас с женой есть немного денег.
На них можно прожить если жить скромно. Да, сказал он. Ну, сказала она,
тогда давайте. Если вы и дальше будете писать, для газеты вы никогда не
будете видеть вещи, вы будете видеть только слова а так не годится, то есть
конечно если вы собираетесь быть писателем
Хемингуэй сказал что он несомненно собирается быть писателем. Они с
женой уехали путешествовать и очень скоро Хемингуэй появился уже один. Он
пришел около десяти утра и остался, он остался на обед, он остался после
обеда, он остался на ужин, он оставался часов до десяти вечера, а потом он
неожиданно заявил что его жена ждет ребенка, и потом, с большим
раздражением, а я, я слишком молод чтобы быть отцом. Мы утешили его как
могли и выпроводили восвояси.
Когда они пришли в другой раз Хемингуэй сказал что он принял решение.
Они уедут в Америку и год он будет много работать и на деньги которые он
заработает и те деньги которые у них уже есть они обзаведутся хозяйством и
он бросит газе-
-311-
ту и сделается писателем. Они уехали и задолго до истечения
назначенного года вернулись с новорожденным на руках. С газетой было
покончено.
Первое что как они считали нужно было сделать по приезде это крестить
ребенка. Они хотели чтобы Гертруда Стайн и я были крестными матерями а один
англичанин, фронтовой товарищ Хемингуэя, должен был быть крестным отцом. Мы
все родились в разной вере и почти никто не исповедовал никакой, так что
было довольно трудно понять в какой именно церкви можно крестить ребенка.
Мы, все мы, провели очень много времени той зимой за обсуждением этого
вопроса. В конце концов решили что в англиканской и крестили в англиканской.
Как это получилось при таком подборе крестных я совершенно не понимаю но его
крестили в англиканской церкви.
Ненадежность писателей или художников-крестных общеизвестна То есть
очень скоро неизбежно охлаждение дружбы. Я знаю несколько таких случаев,
крестные бедного Поло Пикассо совершенно потерялись из виду и точно так же
никто из нас уже давно естественно не видел и не слышал нашего крестника
Хемингуэя.
Но в начале мы были активными крестными, особенно я. Я украсила
вышивкой крестнику детский стульчик и связала одежду веселой расцветки.
Между тем отец крестника очень прилежно делался писателем.
Гертруда Стайн никогда ничего никому не исправляет, она строго
придерживается общих принципов, как видит писатель то что он хочет видеть
-312-
и как соотносится это видение со способом его передачи. При неполном
видении слова плоские, это очень несложно, ошибиться здесь невозможно,
утверждает она Это в то время Хемингуэй начал писать короткие рассказы
которые потом были напечатаны в сборнике В наше время.
Однажды Хемингуэй пришел очень сильно взволнованный известием насчет
Форда Мэдокса Форда и Трансатлантика. Форд Мэдокс Форд начал несколько
месяцев тому назад издавать Трансатлантик. Очень много лет тому назад, на
самом деле до войны, мы познакомились с Фордом Мэдоксом Фордом который в то
время был Фордом Мэдоксом Хойфером. Он был женат на Виолетте Хант и за чаем
Виолетта Хант и Гертруда Стайн сидели рядом и оживленно беседовали. Я сидела
рядом с Фордом Мэдоксом Хойфером и мне он очень понравился и мне понравились
его рассказы о Мистрале и Тарасконе и понравилось что в этом краю
французского роялиста его преследовали из-за сходства с претендентом на
престол Бурбонов. Я никогда не видела претендента на престол Бурбонов но
Форд несомненно мог бы в то время быть Бурбоном.
Мы слышали что Форд в Париже но нам не приходилось встречаться.
Гертруда Стайн видела тем не менее несколько номеров Трансатлантика и нашла
его интересным но никаких других соображений у нее не возникло.
Хемингуэй пришел тогда очень взволнованный и сказал что Форд хочет
что-нибудь взять у Гертруды Стайн для следующего номера, а он, Хемингу-
-313-
эй, хочет чтобы печатали по частям Становление американцев и первые
пятьдесят страниц нужны ему прямо сейчас. При мысли об этом Гертруда Стайн
не могла конечно справиться со своим волнением но рукопись была в
единственном и переплетенном экземпляре. Ничего, сказал Хемингуэй, я
перепишу. И мы с ним на пару переписали таки отрывок и он был напечатан в
следующем номере Трансатлантика. Так что впервые отрывок из монументального
произведения который положил начало, действительно положил начало
современной литературе, был напечатан и мы были очень счастливы. Потом когда
у Гертруды Стайн и Хемингуэя отношения осложнились она всегда с
благодарностью вспоминала о том что это в конце концов стараниями Хемингуэя
был впервые напечатан отрывок из Становления американцев. Она всегда
говорит, конечно я питаю слабость к Хемингуэю. В конце концов он же первый
из молодых людей постучал ко мне в дверь, и он все-таки уговорил Форда
напечатать первый отрывок из Становления американцев.
Я сама не слишком верю в то что Хемингуэй действительно это сделал. Я
никогда не понимала как именно все произошло но всегда была уверена что
как-то иначе. Так мне кажется.
Гертруда Стайн и Шервуд Андерсон очень веселятся на предмет Хемингуэя.
Когда Шервуд в последний раз был в Париже они часто о нем говорили.
Хемингуэя создали они двое и они оба испытывали некоторый стыд и некоторую
гордость за свое духовное детище. Хемингуэй в какой-то мо-
-314-
момент после того как он уничижительно отозвался о Шервуде Андерсоне и
всех его произведениях написал Шервуду письмо от имени американской
литературы которую он, Хемингуэй, вместе со своими сверстниками не
сегодня-завтра спасет, и в этом письме высказал ему все что он, Хемингуэй,
думает о его творчестве, а ничего хорошего он не думал. Когда Шервуд приехал
в Париж Хемингуэй как и следовало ожидать испугался. Шервуд как тоже
следовало ожидать нет.
Как я уже говорила, они с Гертрудой Стайн бесконечно забавлялись по
этому поводу. Они признавали что Хемингуэй желт, он желт, утверждала
Гертруда Стайн, просто как лодочники плоскодонок на Миссисипи у Марка Твена.
Но какой книгой, соглашались они, стала бы настоящая повесть Хемингуэя, не
те повести что он пишет а признания настоящего Эрнеста Хемингуэя. Читатель у
нее был бы другой, не тот который сейчас есть у Хемингуэя, но книга вышла бы
потрясающая. И затем они сошлись на том что Хемингуэй их общая слабость
потому что он очень хороший ученик. Он отвратительный ученик, возразила я.
Вы не понимаете, сказали они оба, ведь очень лестно иметь ученика который не
понимает но усваивает то есть поддается обучению а всякий кто поддается
обучению любимый ученик. Они оба признают что это слабость. Гертруда Стайн
еще прибавила, знаете он как Дерен. Помните мне было непонятно почему Дерен
имеет тот успех который он имеет. Господин Де Тюй сказал что это потому, что
он выглядит современно а пахнет музеем. Так и Хе
-315-
мингуэй, выглядит современно а пахнет музеем Но какая повесть повесть
настоящего Хэма и повесть которую он должен был бы рассказать сам себе но
увы никогда не расскажет. Ведь, он сам однажды пробормотал, карьера,
карьера.
Но вернемся к тому как развивались события.
Хемингуэй сделал все. Он переписал рукопись и выправил корректуру.
Правка корректуры, как я уже сказала, это все равно что вытирание пыли, вы
учитесь видеть смысл вещи так как чтобы этому научиться не хватит никакого
чтения. Выправляя корректуру Хемингуэй научился многому и все чему он
научился ему безумно понравилось. Это в то время он написал Гертруде Стайн
что она уже потрудилась при писании Становления американке а ему со товарищи
нужно лишь посвятить свою жизнь опубликованию этой книги.
Он уповал на то что это ему удастся. Кто-то, кажется по имени Стерн,
сказал что он может договориться с издательством. Гертруда Стайн и Хемингуэй
думали что он может, но вскоре Хемингуэй доложил что у Стерна началась
полоса ненадежности. На этом все кончилось.
Между тем но несколько раньше Мина Лой привела к нам Мак Альмона и он
стал заходить и он привел свою жену и привел Уильяма Карлоса Уильямса. И в
конце концов он захотел напечатать Становление американцев в Контакт Эдишн
и в конце концов напечатал. Об этом я еще расскажу.
Между тем Мак Альмон уже напечатал три стихотворения и десять рассказов
Хемингуэя а
-316-
Уильям Берд уже напечатал В наше время и Хемингуэй приобретал
известность. Он знакомился с Дос Пассосом и Фицджеральдом и Бромфильдом и
Джорджем Антейлом и всеми остальными и в Париже снова был Гарольд Леб.
Хемингуэй стал писателем. Еще благодаря Шервуду он умел боксировать с тенью
а от меня он слышал о бое быков. Я всегда любила испанские танцы и испанский
бой быков и любила показывать фотографии матадоров и боя быков. Еще я любила
показывать ту фотографию где мы с Гертрудой Стайн сидим в первом ряду а нас
случайно сфотографировали. В те времена Хемингуэй учил какого-то молодого
парнишку приемам бокса. Парнишка приемов не знал но случайно отправил
Хемингуэя в нокаут. Думаю такое иногда бывает. В любом случае в то время
Хемингуэй хоть и был спортсмен но легко утомлялся. Он бывал совершенно
измучен пройдя пешком от своего дома до нашего. Впрочем он был измучен еще
войной. Даже теперь он, как по словам Элен все мужчины, хрупкий. Недавно
один его крепкий друг сказал Гертруде Стайн, Эрнест очень хрупкий, всякий
раз как он упражняется в каком-нибудь спорте у него что-нибудь ломается,
рука, нога или голова.
В те далекие времена Хемингуэй симпатизирол всем своим сверстникам
кроме Каммингса. Он обвинял Каммингса в списывании, не с кого попало с
кого-то одного. Гертруда Стайн на которую большое впечатление произвела
Огромная компания, сказала что Каммингс не списывает, он естественный
преемник новоанглийской традиции с ее
-317-
сухостью и ее стерильностью, но также с ее своеобразием. В этом они
расходились. Еще они расходились насчет Шервуда Андерсона. Гертруда Стайн
утверждала что Шервуд Андерсон обладает даром передавать предложением
непосредственное чувство, это входит в великую американскую традицию, и что
на самом деле в Америке никто кроме Шервуда не может написать ясное и
страстное предложение. Хемингуэй так не считал, ему не нравился вкус
Шервуда. Вкус не имеет отношения к предложениям, утверждала Гертруда Стайн.
Еще она добавила что Фицджеральд единственный молодой писатель кто
естественно пишет предложениями.
Гертруда Стайн и Фицджеральд относятся друг к другу очень своеобразно.
Гертруду Стайн очень поразил роман По эту сторону рая. Она прочитала его
когда он только вышел и когда она еще не знала никого из молодых
американских писателей. Она назвала его книгой которая действительно создала
для публики новое поколение. В этом своем мнении она неизменна Она думает
что то же самое можно сказать о Великом Гэтсби. Она думает что Фицджеральда
будут читать когда многие известные его современники будут уже забыты.
Фицджеральд всегда говорит что он думает что Гертруда Стайн это говорит
просто чтобы убедив его в том что она правда так думает ему досадить, и в
своей излюбленной манере прибавляет, и ничего более жестокого чем то как она
это делает я в жизни не слышал. Тем не менее их встре-
-301-
чи всегда проходят очень хорошо. И в последний раз их встреча друг с
другом и с Хемингуэем
прошла очень хорошо.
Потом был Мак Альмон. У Мак Альмона было качество которое привлекало
Гертруду Стайн, плодовитость, он мог писать и писать, но она жаловалась что
скучно.
Был еще Гленуэй Уэскотт но Гленуэй Уэскотт никогда не интересовал
Гертруду Стайн. В нем бродит сок но он не брызжет.
Итак карьера Хемингуэя началась тогда. Одно время мы видели его меньше
но потом он вскоре стал приходить опять. Он пересказывал Гертруде Стайн
диалоги которые позднее вошли в Фиесту и они без конца обсуждали характер
Гарольда Леба.
В это время Хемингуэй готовил сборник рассказов чтобы представить его в
американские издательства. В один вечер после того как мы какое-то время не
виделись он пришел с Шипманом. Шипман был занятный мальчишка который должен
был случить наследство в несколько тысяч долларов когда достигнет
совершеннолетия. Совершеннолетия он пока не достиг. Он купит журнал
Трансатлантик когда достигнет совершеннолетия, так сказал Хемингуэй. Он
вложит деньги в сюрреалистический журнал когда достигнет совершеннолетия,
сказал Андре Массон. Он купит дом в деревне когда достигнет совершеннолетия,
сказала Жозетта Грис. Когда он правда достиг совершеннолетия кажется никто
из тех кто тогда его знал не знал что же он сделал со своим наследством.
Хемингуэй взял его с собой чтобы обсудить покупку Трансатлантика и заодно он
взял с собой рукопись кото-
-319-
рую намеревался послать в Америку. Он вручил ее Гертруде Стайн. Он
добавил к своим рассказам небольшой рассказ-размышление и в этом размышлении
говорилось что Огромная комната это самая великая книга которую он читал.
Как раз тогда Гертруда Стайн сказала, Хемингуэй, наблюдения это не
литература
После этого мы не видели Хемингуэя довольно долго а потом, сразу после
того как напечатали Становление американцев, мы пошли к кому-то в гости и
Хемингуэй который там был подошел к Гертруде Стайн и начал объяснять почему
он не сможет отрецензировать книгу. И тогда ему на плечо опустилась тяжелая
рука и Форд Мэдокс Форд сказал, это я, молодой человек, хочу поговорить с
Гертрудой Стайн. Форд ей сказал тогда, что хотел попросить позволения
посвятить свою новую книгу вам. Вы не возражаете. Мы с Гертрудой Стайн были
ужасно довольны и тронуты.
После этого Гертруда Стайн и Хемингуэй не встречались несколько лет. А
потом мы услышали что он снова в Париже и говорит разным людям как он жаждет
ее увидеть. Не вздумайте прийти под ручку с Хемингуэем, говорила я ей когда
она уходила гулять. И уж конечно в один прекрасный день она пришла вместе с
ним.
Они долго сидели и разговаривали. В конце концов я услышала как она
сказала, ведь вы же, Хемингуэй, на девяносто процентов ротарианец. А нельзя,
спросил Хемингуэй, чтобы на восемьдесят.
Нет, с сожалением ответила она, не выходит. В конце концов, как она
всегда говорит, у него же
-319-
правда бывали, и могу сказать правда бывают моменты бескорыстия.
Потом они встречались довольно часто. Гертруда Стайн всегда говорит что
ей приятно его видеть, он такая прелесть. И если бы он только рассказал
свою историю. Во время их последнего разговора она обвинила его в том, что
он убил и в землю закопал многих своих соперников. Я, ответил Хемингуэй,
всерьез никогда никого не убивал кроме разве что одного человека а человек
был плохой, и он того заслуживал, ну а если я еще кого-то убил то это я не
ведая что творю, и значит за свои поступки ответственности не несу.
Это Форд однажды сказал о Хемингуэе, он приходит и садится у моих ног и
хвалит меня. Я начинаю нервничать. Еще Хемингуэй однажды сказал, мой огонь
невелик но я его убавляю и убавляю, и тогда получается сильный взрыв. Если
бы были одни только взрывы мое творчество было бы таким интересным что никто
бы не выдержал.
Но что бы я ни говорила, Гертруда Стайн всегда отвечает, да, я знаю но
Хемингуэй моя слабость.
Однажды зашла Джейн Хип. Литл Ревью напечатал Родину бонн и Письмо
Шервуду Андерсону ко дню святого Валентина. Джейн Хип села и мы начали
разговаривать. Она осталась на ужин и она осталась на целую ночь а на
рассвете крошка форд Годива которая всю ночь светила фарами и ждала когда ее
отвезут домой еле-еле завелась когда пришлось отвозить домой Джейн. Джейн
Хип ужасно тогда и всегда нравилась Гертруде Стайн,
-321-
Маргарет Андерсон интересовала ее намного меньше.
И вот опять наступило лето и на этот раз мы поехали на Лазурный берег и
встретились в Анти-бах с Пикассо. Это там я впервые увидела мать Пикассо.
Пикассо необыкновенно на нее похож. Не имея общего языка Гертруда Стайн и
мадам Пикассо разговаривая испытывали затруднения говорили достаточно много
чтобы увлечься. Они говорили о Пикассо когда Гертруда Стайн только с ним
познакомилась. Он тогда был безумно красивый, сказала Гертруда Стайн, он
светился как будто его окружал ореол. О, сказала мадам Пикассо, если тогда
он вам казался красивым то уверяю вас он был несравненно миловиднее в
детстве. Он был ангельски и дьявольски красив, никто глаз не мог отвести. А
теперь, немного обиженно спросил Пикассо. Теперь, хором ответили они, теперь
такой красоты уже нет. Но, добавила его мать, ты очень милый и ты очень
замечательный сын. Так что пришлось ему удовольствоваться этим.
Это в то время Жан. Кокто который гордится тем что ему всегда тридцать
писал небольшую биографию Пикассо и прислал ему телеграмму с просьбой
сообщить когда он родился. А вы, телеграфировал в ответ Пикассо.
О Пикассо и Жане Кокто есть очень много историй. Пикассо как и Гертруду
Стайн легко расстроить если неожиданно его попросить что-нибудь сделать и
Жан Кокто это делает очень успешно. Пикассо обижается и при случае мстит.
Не так давно произошла одна длинная история.
-322-
Пикассо был в Испании, в Барселоне, и друг его юности, редактор газеты
издающейся не по-испански, а по-каталонски, взял у него интервью. Зная что
интервью напечатанное по-каталонски вероятно никогда не будет напечатано
по-испански, Пикассо ни в чем себе не отказывал. Он сказал что Жан Кокто
становится очень популярен в Париже, так популярен что сборник его стихов
сделался настольной книгой всякого модного парикмахера.
Давая это интервью как я уже говорила он ни в чем себе не отказывал а
потом вернулся в Па-риле.
Какой-то каталонец в Барселоне послал газету какому-то другу-каталонцу
в Париже а друг-каталонец в Париже перевел ее другу-французу а друг-француз
напечатал интервью во французской газете.
Продолжение этой истории Пикассо и его жена рассказывали нам вместе.
Как только Жан увидел статью, он попытался увидеть Пабло. Пабло видеть его
отказался, он велел прислуге говорить что его всегда нет и днями они не
могли подойти к телефону. В конце концов в одном интервью французской прессе
Кокто заявил что то интервью которое так больно его ранило было оказывается
интервью с Пикабиа а не интервью с Пикассо, его другом. Пикабиа разумеется
это опроверг. Кокто умолял Пикассо дать публичное опровержение. Пикассо
благоразумно сидел дома.
В тот первый вечер когда Пикассо вышли из дому они пошли в театр и
напротив них сидела
-323-
мать Жана Кокто. Во время первого антракта они к ней подошли, и
окруженная всеми их общими друзьями она сказала, дорогой мой, вы не можете
представить себе какое облегчение для нас с Жаном узнать что не вы дали то
гнусное интервью, ну скажите что это были не вы.
И как сказала жена Пикассо, я как мать не могла допустить чтобы мать
страдала и я сказала конечно это был не Пикассо и Пикассо сказал, да да
конечно нет, и таким образом публично взял свои слова обратно.
Это тем летом, любуясь движением мелких волн на антибском берегу,
Гертруда Стайн написала Законченный портрет Пикассо, Второй портрет Карла
Ван Вехтена и Книгу завершающуюся любовной историей раз у жены есть корова
прекрасно проиллюстрированную Хуаном Грисом.
Роберт Мак Альмон уже точно решил опубликовать Становление американцев
и тем летом мы должны были вычитывать корректуру. Предыдущим летом мы
собирались как обычно встретиться с Пикассо в Антибах. Я читала Guide des
Gourmets* и нашла среди прочих мест где хорошо кормят Отель Пернолле в
городе Белле. Белле он и есть Белле, как заметил старший брат Гертруды
Стайн. Мы приехали туда приблизительно в середине августа. По карте казалось
что он высоко в горах а Гертруда Стайн не любит пропасти и когда мы ехали на
машине через ущелье я нервничала а она возмущалась но наконец край прелестно
рас-
-324-
кинулся перед нами и мы приехали в Белле. Гостиница была приятная хотя
и без сада а мы
рассчитывали на гостиницу с садом. Мы остановились там на несколько
дней.
Потом мадам Пернолле, приятная круглолицая женщина, сказала что раз мы
по-видимому остаемся то почему бы нам не рассчитываться за день или за
неделю. Мы сказали что так и будем рассчитываться. Между тем Пикассо начали
интересоваться что с нами сталось. Мы ответили что мы в Белле. Мы узнали что
Белле родина Бритта Саварена. Теперь в Билиньене мы с удовольствием
пользуемся мебелью из дома Брийата Саварена а дом принадлежит владельцу
этого дома.
Мы также узнали что в Белле учился Ламартин а Гертруда Стайн говорит
что всюду где хоть какое-то время пробыл Ламартин хорошо кормят. Мадам
Рекамье тоже родом из этой области и там живет очень много потомков
родственников ее мужа. Все это мы узнавали постепенно а пока что нам было
удобно и мы остались и поздно уехали. Следующим летом мы должны были
вычитывать корректуру Становления американцев поэтому мы рано уехали из
Парижа и опять поехали в Белле. Какое это было лето.
Становление американцев это книга длиной в тысячу страниц, тесно
напечатанная на больших страницах. Дарантьер говорил что в ней пятьдесят
миллионов шестьдесят пять тысяч слов. Она писалась с девятьсот шестого по
девятьсот восьмой год, кроме отрывков напечатанных в Трансатлантике она пока
что целиком была в рукописи.
-325-
Предложения в книге делаются чем дальше тем длиннее, они иногда длиною
в несколько страниц а наборщики были французские и когда они ошибались или
пропускали строчку то вставить ее обратно стоило невероятных усилий.
Мы уходили из гостиницы утром с раскладными стульями, едой и
корректурой, и целый день мы боролись с ошибками французских наборщиков.
Корректуру нужно было почти всю править по четыре раза и в конце концов я
разбила очки, ослепла и Гертруда Стайн кончала уже одна.
Мы разнообразили обстановку наших трудов и находили чудные места но нас
всегда сопровождали эти бесконечные страницы ошибок наборщиков. Одна из
наших любимых горок откуда вдалеке был виден Монблан мы назвали мадам
Монблан.
Другое место куда мы часто ходили была небольшая заводь небольшой
речушки у перепутья сельских дорог. Там было совершенно, как в
средневековье, столько всего происходило, очень по-средневековому просто.
Помню однажды к нам подошел селянин со своими волами. Он очень учтиво
спросил, сударыни не случилось ли что со мной. Еще как случилось, ответили
мы, у вас все лицо в крови. О, сказал он, понимаете мои волы стали скользить
под гору а я их удерживал и тоже подскользнулся и я подумал а не случилось
ли со мной что. Мы помогли ему смыть кровь и он отправился дальше.
Это тем летом Гертруда Стайн начала две большие вещи Роман и Явления
природы и потом это
-326-
вылилось в целый цикл статей, размышлений о предложениях и грамматике.
Это вылилось сперва в Знакомство с описанием напечатанное потом в
Зайцин Пресс. В то время она начала так описывать пейзаж как будто все что
она видит это явления природы, вещи существующие в себе, и оно, это
упражнение, показалось ей очень интересным и в конце концов вылилось в
позднейший цикл Оперы и пьесы. Я стараюсь быть как можно банальней, мне
говорила она. А потом иногда немного обеспокоенно, получается не очень
банально. Последнюю вещь которую она закончила и которую я сейчас
перечитываю Строфы размышления она считает своим истинным достижением по
части банальности.
Но вернемся назад. Мы с почти готовой корректурой возвратились в Париж
а в Париже была Джейн Хип. Она была очень взволнована. У нее был потрясающий
план, совершенно не помню какой, но Гертруде Стайн он ужасно понравился. Он
имел какое-то отношение к плану переиздания Становления американцев в
Америке.
Как бы там ни было в ходе разнообразных осложнений с ним связанных Мак
Альмон очень рассердился и не без причин, а Становление аме-риканщв вышло но
друзьями Мак Альмон и Гертруда Стайн больше не были.
Когда Гертруда Стайн была еще совсем молода ее брат однажды заметил что
родившись в феврале она очень похожа на Джорджа Вашингтона, она импульсивна
и медленно соображает. Многочисленные осложнения это несомненное следствие.
-327-
Однажды той же весной мы собрались пойти на новый весенний салон. Джейн
Хип рассказывала о молодом русском чьи работы ее интересовали. Когда мы
ехали через мост на Годиве мы увидели Джейн Хип и молодого русского. Мы
увидели его картины и Гертруда Стайн тоже заинтересовалась. Конечно он к нам
пришел.
В Как писать Гертруда Стайн высказывает такое суждение, пережив период
величия живопись вернулась теперь к тому чтобы быть второстепенным
искусством.
Ей было очень интересно кто станет вождем этого искусства.
Получилось так.
Молодой русский был интересный. Он писал, так он говорил, цвет который
не был цветом и он писал три головы в одной. Пикассо когда-то рисовал три
головы в одной. Вскоре русский уже писал три фигуры в одной. Был ли он
единственный. В некотором смысле да хотя была группа. У этой группы, почти
сразу после того как Гертруда Стайн познакомилась с русским, состоялась
выставка в какой-то из галерей, по-моему у Дрюэ. В группу тогда входили
один русский, один француз, один очень юный голландец и два русских брата.
Всем кроме голландца было примерно по двадцать шесть.
На этой выставке Гертруда Стайн познакомилась с Джорджем Антейлом
который спросил можно ли ему будет прийти а когда пришел то привел Вирджила
Томпсона Гертруда Стайн нашла Джорджа Антейла не особенно интересным хотя он
ей
-328-
нравился, но Виджила Томпсона она находила очень интересным хотя он не
нравился мне.
Впрочем обо всем об этом я расскажу потом. Сейчас вернемся к живописи.
Русский Челищев был самый сильный и самый зрелый и самый интересный
художник в группе. Он уже страстно ненавидел француза которого они называли
Бебе Берар и которого звали Кристиан Берар и который, говорил Челищев, все
копировал.
Со всеми этими художниками прежде дружил Рене Кревель. Через некоторое
время у кого-то из них открывалась персональная выставка в Галери Пьер. Мы
шли на нее и по дороге встретили Рене. Мы все остановились, он был гневно
весел. Он говорил с характерной для него блистательной яростью. Эти
художники, сказал он, продают свои картины по нескольку тысяч франков штука
и они претенциозны претенциозностью тех чьи достоинства измеряются деньгами,
а мы, писатели которые их вдвое талантливее и бесконечно жизнеспособнее, не
можем заработать себе на жизнь и вынуждены попрошайничать и интриговать
чтобы издатели нас печатали; но придет время, и Рене стал пророчествовать, и
те же самые художники придут к нам в поисках обновления а мы тогда будем
равнодушно на них взирать.
Рене был тогда и до сих пор остается ревностным сюрреалистом. Он,
француз, нуждается и нуждался и в рациональном и в сущностном оправдании
своих экзальтированных страстей. Человек первого послевоенного поколения, он
не мог его обрести ни в религии ни в патриотизме, потому
-329-
что война для его поколения уничтожила как страсти и патриотизм и
религию. Сюрреализм это оправдание дал. Он прояснил ему то смятенное
отрицание в котором он жил и любил. Он один в своем поколении действительно
сумел его выразить, в ранних книгах немного, а в последней, Клавесин Дидро,
очень полно и с той блистательной яростью которая составляет его
достоинство.
Эта группа художников поначалу была интересна Гертруде Стайн не как
группа а только русским. Этот интерес постепенно возрастал а потом она
забеспокоилась. Положим, говорила она, те импульсы которые рождают новые
направления в искусстве и литературе не иссякли и рождают новое направление
в искусстве и литературе; чтобы улавливать эти импульсы и рождать их а также
и обновлять нужна очень буйная творческая энергия. У русского ее явно не
было. Но все же была определенно новая творческая идея. Откуда она взялась.
Когда молодые, художники жалуются что ее мнение об их творчестве часто
меняется. Гертруда Стайн им всегда говорит, дело не в том что у меня
меняется мнение о картинах, а в том что картины сливаются со стеной, я их
больше не вижу а потом они естественно выходят за дверь.
Между тем как я уже говорила Джордж Антейл привел к нам Вирджила
Томпсона и Вирджил Томпсон и Гертруда Стайн стали друзьями и много виделись.
Вирджил Томпсон положил на музыку некоторые вещи Гертруды Стайн, Сузи Азадо,
Прециоциллу и Столица столиц. Гертруду Стайн очень интересовала музыка
Вирджила Томпсона.
-330-
Он несомненно понял Сати и у него было вполне самостоятельное понимание
просодии. Он многое понимал в творчестве Гертруды Стайн, ему снилось ночами
что он там чего-то не понимает, но в целом его очень устраивало то что он
все-таки понимал. Она с большим удовольствием слушала свои слова в
обрамлении его музыки. Они много виделись.
У Вирджила в комнате было очень много картин Кристиана Берара и
Гертруда Стайн очень много на них смотрела. Она совершенно не понимала что
она о них думает.
Они с Вирджилом Томпсоном без конца о них говорили. Вирджил сказал что
он не знаток в картинах но эти как ему кажется замечательные. Гертруда Стайн
поделилась с ним своим беспокойством насчет нового направления и того что
источник творческой энергии который его питает это не русский. Вирджил
сказал что здесь он совершенно с нею согласен и он был убежден что это Бебе
Берар, нареченный Кристианом. Она сказала что может быть это и есть ответ
хотя она совсем не уверена. О картинах Берара она говорила, в них почти
что-то есть а потом их просто нет. Как она объясняла Вирджилу, католическая
церковь очень четко различает святого и истерика. То же в искусстве. Есть
восприимчивость истерика которая имеет полную видимость творчества, но
собственно творчество имеет опору в личности а это нечто совсем другое.
Гертруда Стайн склонялась к тому что творчески Берар больше истерик чем
святой. В время это она вновь с еще большим рвением взя-
-331-
лась за писание портретов и, как она сказала, чтобы прояснить голову
написала портрет русского и портрет француза. Между тем через Вирджила
Томпсона, она познакомилась с молодым французом по имени Жорж Юнье. Они с
Гертрудой Стайн стали очень преданными друзьями. Ему нравилось звучание ее
письма и потом ему нравился смысл и нравились предложения.
У него дома было очень много портретов которые с него написали его
друзья. В том числе и портрет работы одного из двух русских братьев и
портрет работы одного молодого англичанина. Все эти портреты не особенно
заинтересовали Гертруду Стайн. Но все же одна картина этого молодого
англичанина с изображением руки хотя и не понравилась но запомнилась ей.
Все стали в то время очень заняты собственными делами. Вирджил Томпсон
давно просил Гертруду Стайн написать для него оперу. Среди святых было двое
которые всегда ей нравились больше чем все остальные святые, святая Тереза
Авильская и Игнатий Лойола, и она сказала что она и напишет ему оперу об
этих двух святых. Она ее начала и всю ту весну очень усердно над ней
работала и наконец закончила Четырех святых и отдала ее Вирджилу Томпсону
чтобы он положил на музыку. Он положил. И это совершенно интересная опера и
с точки зрения слов и с точки зрения музыки.
Все эти годы мы продолжали ездить летом в гостиницу в Белле. Мы так
полюбили тот край, все ту же долину Роны, и людей в том краю, и деревья в
том краю, и волов в том краю, что стали при-
-332-
сматривать себе дом. Однажды мы увидели дом нашей мечты на
противоположной стороне долины. Пойдите спросите у того земледельца чей это
дом, сказала Гертруда Стайн. Я ответила, глупости, это солидный дом и в нем
живут. Пойдите спросите, сказала она Очень неохотно я пошла и спросила. Он
ответил, ну да, может быть сдается, он принадлежит маленькой девочке, вся ее
родня умерла и по-моему там сейчас живет лейтенант из части которая стоит в
Белле но я так понимаю что часть уходит. Сходили бы к агенту по
недвижимости. Мы пошли. Это был добрый старый крестьянин который всегда нам
говорил allez doucement, давайте потихоньку. Нам пообещали этот дом, а мы
так и не видели его ближе чем с противоположной стороны долины, как только
лейтенант уедет. Наконец три года тому назад лейтенант уехал в Марокко а мы
купили дом виденный по-прежнему только с противоположной стороны долины и он
чем дальше тем больше нам нравится.
Пока мы жили еще в гостинице однажды приехала и отобедала Натали Барни,
а с нею несколько человек друзей и в том числе графиня Клермон-Тоннер. Они с
Гертрудой Стайн были в восторге друг от друга и знакомство имело много
приятных последствий но об этом после.
Вернемся к художникам. Сразу после того как была закончена опера и
перед самым отъездом из Парижа мы как-то пошли на выставку в Галери Бонжан.
Там мы встретили одного из братьев-русских, Женю Бермана, и Гертруда Стайн
отнеслась
-333-
к его картинам не без интереса. Она сходила с ним к нему в мастерскую и
посмотрела все что он вообще написал. У него казалось был более строгий ум
чем у двух других художников которые безусловно не создали современное
направление, может быть изначально идея была его. Она спросила, рассказав
ему в чем дело как она тогда любила рассказывать всем кто слушал, не он ли
родоначальник идеи. Он ответил умно про себя улыбаясь что наверное он. Она
была совсем не уверена что он прав. Он приезжал к нам в Билиньен и она
постепенно пришла к выводу что хотя художник он очень хороший для создателя
идеи он художник слишком плохой. Таким образом снова начались поиски.
Опять же перед самым отъездом и в той же самой галерее она увидела
картину изображавшую поэта у водопада. Это кто, спросила она. Один молодой
англичанин, Фрэнсис Роуз, ответили ей. Ах да он меня не интересует. Сколько
стоит эта картина, спросила она Стоила она очень мало. Гертруда Стайн
говорит что картина стоит или триста франков или триста тысяч франков. Эту
она купила за триста франков и на лето мы уехали из Парижа.
Жорж Юнье решил стать издателем и начал издавать Эдисьон де ла Монтань.
Начал это издание вообще-то Жорж Марентьен, всеобщий друг, но он решил
уехать в Америку и стать американцем, а Жорж Юнье его унаследовал. Первой
книгой вышли шестьдесят страниц Становления американцев во французском
переводе. Гертруда Стайн
-334-
и Жорж Юнье переводили их вместе и она была очень этому рада. Потом
вышел сборник Десять портретов написанный Гертрудой Стайн и
проиллюстрированный автопортретами художников и их портретами остальных,
портретом Вирджила Томпсона Берара и графическим автопортретом Берара,
автопортретом Челищева и автопортретом и портретом Гийома Аполлинера Пикассо
и Эриком Сати Пикассо, автопортретом молодого голландца Кристианса Тонни и
Бернаром Фаем Тонни. Эти выпуски были очень хорошо приняты и все были
довольны.
Вновь все разъехались.
Гертруда Стайн зимой водила купать своего белого пуделя Баскета к
ветеринару и пока Баскет сох она заходила в ту самую картинную галерею где
она купила романтическую картину молодого англичанина. Каждый раз когда она
приходила домой она приносила новые картины молодого англичанина. Она не
очень об этом, говорила но они накапливались. Несколько человек начинали
говорить ей об этом молодом человеке и предлагали его представить. Гертруда
Стайн уклонялась. Она говорила, нет ей хватит знакомств с молодыми
живописцами, теперь она будет довольствоваться знакомством с молодой
живописью.
Между тем Жорж Юнье написал стихотворение под названием Enfance*.
Гертруда Стайн вызвалась его перевести но вместо этого написала о нем
стихотворение. Сначала это очень понравилось
* Детство (фр.)
-335-
Жоржу Юнье а потом ему это совсем не понравилось. Тогда Гертруда Стайн
назвала стихотворение Дружба увяла прежде чем увяли ее цветы. Все вмешались.
Группа распалась. Гертруда Стайн очень опечалилась а потом утешилась написав
обо всем об этом прелестный рассказ Слева направо напечатанный в лондонском
Харперс Базар.
Это вскоре после того Гертруда Стайн однажды позвала дворника и
попросила повесить все картины Фрэнсиса Роуза, к тому времени их было штук
тридцать с лишним. Пока их вешали Гертруда Стайн очень печалилась. Я
спросила зачем их вешать если ее это так печалит. Она сказала что ничего не
поделаешь, ей кажется что так надо, но очень печально полностью менять облик
комнаты этими тридцатью картинами. На том дело пока закончилось.
Вернемся к тем временам когда только что опубликовали Становление
американцев. В то время в Атенеуме появилась рецензия на книгу Гертруды
Стайн География и пьесы за подписью Эдит Ситуэлл. Рецензия была длинная и
немного снисходительная но она мне понравилась. Гертруда Стайн к ней никак
не отнеслась. Год спустя в Лондон Воуг была статья опять Эдит Ситуэлл в
которой говорилось что написав статью в Атенеуме она весь следующий год
занималась тем что читала только Географию и пьесы и теперь хочет сказать
какая это на ее взгляд важная и прекрасная книга.
Однажды у Элмера Хардена мы познакомились с мисс Тод редактором Лондон
Воуг. Она сказала что Эдит Ситуэлл скоро должна приехать в
-336-
Париж и очень хочет познакомиться с Гертрудой Стайн. Она сказала что
Эдит Ситуэлл очень стесняется и не знает удобно ли прийти. Элмер Харден
сказал что будет при ней эскортом.
Я очень хорошо помню свое первое впечатление от нее, впечатление
которое на самом деле никогда не менялось. Очень высокая, немного
сутулящаяся, отступающая назад и нерешительно продвигающаяся вперед, и
прекрасная самым изысканным носом какой мне только доводилось видеть у
человека. И в тот раз и потом во время их разговоров с Гертрудой Стайн меня
восхищала тонкость и полнота ее понимания поэзии. Они с Гертрудой Стайн
сразу же подружились. Эта дружба как всякая дружба имела и свои сложности но
я уверена что по крупному счету Гертруда Стайн и Эдит Ситуэлл друзья и им
нравится быть друзьями.
Мы много виделись с Эдит Ситуэлл в тот раз а потом она уехала в Лондон.
Осенью того же тысяча девятьсот двадцать пятого года Гертруда Стайн получила
письмо от председателя Литературного общества Кембриджа с просьбой выступить
у них в начале весны. Гертруда Стайн совершенно наповал убитая одной мыслью
об этом довольно быстро ответила отказом. Сразу же пришло письмо от Эдит
Ситуэлл что отказ нужно переменить на согласие. Что это выступление
чрезвычайно важно для Гертруды Стайн и более того в Оксфорде ждут когда
будет дано согласие Кембриджу чтобы попросить ее сделать то же самое в
Оксфорде.
Было совершенно очевидно что делать нечего
-337-
как только согласиться и Гертруда Стайн согласилась.
Ее очень убивала эта перспектива. Мир, сказала она, чреват гораздо
большими ужасами чем война. Даже пропасти в сравнении с ними ничто. У нее
было очень упавшее настроение. К счастью в начале января с фордом стало
происходить все что только можно. В хороших гаражах не баловали вниманием
старые форды и свой Гертруда Стайн возила на окраину в Монтруж в мастерскую
где механики чинили его пока она там сидела. Если бы она уходила то ехать
обратно скорее всего было бы уже не на чем.
Одним холодным мрачным днем она поехала сидеть со своим фордом и пока
она сидела на подножке другого разбитого форда и смотрела как ее собственный
форд разбирают и собирают, она начала писать. Она просидела так несколько
часов и когда продрогшая, с починенным фордом, она вернулась домой, она уже
целиком написала Композицию как объяснение.
Написать лекцию она написала но другая беда была как же ее читать. Все
давали советы. Она читала ее всем кто бывал в доме а некоторые читали ее ей.
Причард как раз тогда оказался в Париже и они на пару с Эмили Чадбурн давали
советы и слушали. Причард показал ей английскую манеру но Эмили Чадбурн была
решительно за американскую а Гертруда Стайн так волновалась что ей было не
до манеры. Однажды мы пошли к Натали Барни. У нее сидел очень старый и очень
обаятельный французский профессор истории. Натали Барни попросила
-338-
его объяснить Гертруде Стайн как читать лекции. Говорите как можно
быстрее и никогда не смотрите на слушателей, посоветовал он. Причард велел
говорить как можно медленнее и все время смотреть на слушателей. Как бы там
ни было я заказала Гертруде Стайн новое платье и новую шляпу и в начале
весны мы поехали в Лондон.
Была весна двадцать шестого года и в Англии все еще продолжались
строгости с паспортами. Наши были в порядке но Гертруда Стайн ненавидит
отвечать на вопросы чиновников, она всегда волнуется а ввиду предстоящей
лекции настроение у нее было уже и так отнюдь не радостное.
Поэтому я взяла оба паспорта и пошла вниз к чиновникам. А где, спросил
один из них, где мисс Гертруда Стайн. Она на палубе, ответила я, и ей
неохота спускаться. Ей неохота спускаться, повторил он, и правильно что
неохота, ей неохота спускаться, и поставил необходимые подписи. И вот мы
приехали в Лондон. Эдит Ситуэлл дала прием в Нашу честь и брат ее Осберт
тоже. Осберт был для Гертруды Стайн большим утешением.. Он так хорошо
понимал как по-разному можно нервничать что когда он сидел рядом с нею в
гостинице и описывал всевозможные формы в которых у него или у нее может
выразиться испуг перед залом она вполне успокоилась. Ей всегда очень
нравился Осберт. Она всегда говорила что он похож на дядюшку короля. Он
отличался той приятной благодушно безответственной суетливой невозмутимостью
какой всегда должен отличаться дядюшка английского короля.
-339-
Наконец в середине дня мы приехали в Кембридж, нас напоили чаем а потом
мы пообедали с председателем общества и его друзьями. Это было очень приятно
а после обеда мы пошли в лекционный зал. Аудитория была смешанная, и мужчины
и женщины. Гертруда Стайн вскоре почувствовала себя непринужденно, лекция
прошла очень хорошо, мужчины после лекции задавали очень много вопросов и
выражали большой восторг. Женщины молчали. Гертруда Стайн не поняла потому
ли это что им так положено или они просто молчали.
На следующий день мы поехали в Оксфорд. В Оксфорде мы пообедали с
молодым Эктоном а потом пошли на лекцию. Гертруда Стайн уже лучше
чувствовала себя в качестве лектора и на этот раз было великолепно. Как она
заметила после, я чувствовала себя прямо таки примадонной.
Зал был полон, сзади многие стояли, а обсуждение после лекции длилось
час и никто не ушел. Было ужасно интересно. Задавали. самые разные вопросы,
чаще всего спрашивали почему Гертруда Стайн считает что когда она пишет так
как она пишет она поступает правильно. Она отвечала что вопрос не в том что
кто-то считает ведь пишет же она уже лет двадцать так как она пишет а они же
захотели прийти на ее лекцию. Это конечно не означает что они начинают
считать что ее путь возможен, это ничего не доказывает, но с другой стороны
возможно все-таки о чем-то и говорит. Раздался смех. Потом вскочил один
человек, потом оказалось, декан, и сказал что в Святых в семи его очень
заинтересовало предложение о кольце вокруг
-340-
луны, кольце которое следует за луною. Он признавал что это одно из
самых красивых по соразмерности предложений которые он вообще слышал, но
все же следует ли кольцо за луною. Гертруда Стайн ответила, когда вы
смотрите на луну а вокруг луны кольцо и луна движется разве кольцо не
следует за луною. Может быть это только кажется, ответил он. А в таком
случае, спросила она, откуда вы знаете что оно не следует; он сел. Другой
человек, сосед первого, вскочил и тоже что-то спросил. Так повторялось
несколько раз, они вскакивали по очереди. Потом первый человек вскочил и
спросил, вот вы говорите что все всегда разное и поэтому всегда одинаковое
как так может быть. Возьмем, сказала она, вас двоих, вот вы вскакиваете по
очереди, в этом вы одинаковые и уж конечно вы не станете отрицать что вы
всегда разные. Туше, сказал он и встреча закончилась. Один человек был
настолько взволнован что когда мы выходили он доверительно мне сказал что
эта лекция самое его сильное потрясение с тех пор как он прочитал Критику
чистого разума Канта
Эдит Ситуэлл, Осберт и Сашевраль все были и все были в восхищении. Они
были в восхищении и от лекции и от того как доброжелательно и остроумно
Гертруда Стайн отвечала на каверзные вопросы. Эдит Ситуэлл сказала что Саш
вспоминал и усмехался всю дорогу домой.
На следующий день мы вернулись в Париж. Ситуэллы хотели чтобы мы
остались и дали интервью и вообще продолжили но Гертруда Стайн считала что
ей достало славы и суеты. Не то чтобы,
-341-
как она всегда объясняет, ей когда-то достанет славы. Ведь художнику,
как она всегда утверждает, не нужны критики, ему нужны лишь ценители. Если
ему нужны критики он не художник.
Несколько месяцев спустя Леонард Вулф опубликовал Композицию как
объяснение в издательстве Хогарт в серии эссеистики. Кроме того ее
напечатали в Дайл.
Милдред Олдрич была ужасно довольна английскими успехами Гертруды
Стайн. Она была добрая новоангличанка, и для нее признание Оксфорда и
Кембриджа значило даже больше чем признание Трансатлантик Манфли. Мы
навестили ее по приезде и ей нужно было чтобы ей опять прочли лекцию и
подробно рассказали как это вообще все было.
У Милдред Олдрич наступали тяжелые времена. Ее дотация неожиданно
кончилась а мы долго об этом не знали. Однажды Даусон Джонстон, библиотекарь
из Американской библиотеки, сказал Гертруде Стайн что мисс Олдрич написала
ему чтобы он приехал и забрал у нее все книги потому что скоро она больше не
будет жить в своем доме. Мы сразу же поехали к ней и Милдред сказала что ее
дотация прекратилась. Кажется эту дотацию давала женщина которая впала в
маразм и в один прекрасный день сказала своему юристу прекратить выплату
всех дотаций которые она много лет давала разным людям Гертруда Стайн
сказала Милдред не волноваться. Фонд Карнеги по ходатайству Кейт Басс
прислал пятьсот долларов, Уильям Кук выдал Гертруде Стайн банковский чек на
все первоочередные
-342-
нужды, другой знакомый Милдред из Провиденс, Род Айленд, сделал щедрое
предложение а Атлантик Манфли создал фонд. Очень скоро Милдред Олдрич была
обеспечена. Она печально сказала Гертруде Стайн, ты не дала мне красиво уйти
в богадельню а я бы ушла красиво, но ты устроила богадельню здесь и я ее
единственная обитательница. Гертруда Стайн утешила ее и сказала что можно
так же красиво жить в одиночестве. В конце концов Милдред, говорила ей
Гертруда Стайн, никто не скажет что за свои деньги ты не имела все двадцать
четыре удовольствия. Последние годы жизни Милдред Олдрич была обеспечена.
Уильям Кук после войны провел три года в России, в Тифлисе, занимаясь
распределением от Красного Креста. Однажды вечером они с Гертрудой Стайн
поехали навестить Милдред, это было во время ее последней болезни, и однажды
туманным вечером они возвращались домой. У Кука был маленький открытый
автомобиль но мощный прожектор, такой сильный что он пробивал туман. Прямо
за ними и с той же скоростью ехал другой маленький автомобиль, Кук наддавал,
они наддавали, Кук тормозил, они тормозили. Гертруда Стайн сказала, им
повезло что у вас такой яркий прожектор, у них фонарь слабый и они
пользуются вашим. Да, сказал Кук, любопытно что я и сам это себе говорю но
знаете после трех лет Советской России и Чека даже мне, американцу, делается
немного жутко, и я должен сам себе это говорить убеждая себя что машина
сзади не машина тайной полиции.
-343-
Я говорила что в доме бывал Рене Кревель. Из всех молодых людей которые
бывали в доме Рене мне наверное нравился больше всех. У него было
французское обаяние, которое, в моменты своего наибольшего обаяния
обаятельнее даже американского, как оно ни бывает обаятельно, обаяния.
Марсель Дюшан и Рене Кревель может быть являют собою наиболее законченные
примеры этого французского обаяния. Мы очень любили Рене. Молодой и яростный
и больной он был революционен и мил и нежен. Гертруда Стайн и Рене Кревель
очень любят друг друга, он пишет ей совершенно восхитительные письма
по-английски а она его много ругает. Это он, давным-давно, первый нам
рассказал о Бернаре Фае. Он сказал что это молодой университетский
профессор из Клермон-Феррана и он хочет нас к нему повести. Однажды он нас
повел. Бернар Фай был совсем не такой как думала Гертруда Стайн и им было
особенно не о чем разговаривать.
Насколько я помню той и следующей зимой мы устраивали много приемов. Мы
устроили чаепитие Ситуэллам.
От Карла Ван Вехтена приходило много негров а кроме того были негры
нашего соседа мистера Рейгана который привез в Париж Жозефину Бейкер. От
Карла пришел Пол Робсон. Пол Робсон интересовал Гертруду Стайн. Он знал
американские ценности и американскую жизнь как мог знать только тот кто был
их частью а не им причастен. И все же как только рядом появлялся
какой-нибудь другой человек он становился безусловно не-
-344-
гром. Гертруда Стайн не любила как он поет спиричуэлз. Они не больше
ваши чем все остальное, так зачем же заявлять на них права, сказала она. Он
не ответил.
Однажды была южанка, совершенно очаровательная южанка, и она спросила
его, где вы родились, и он ответил, в Нью-Джерси, и она сказала, не на юге,
как жалко, и он ответил, мне нет.
Гертруда Стайн пришла к выводу что негры страдают не от гонений, они
страдают от небытия. Она всегда утверждает что африканцы не первобытны, они
несут в себе очень древнюю но очень ограниченную культуру и в них она и
пребудет. Потому что ничего не происходит и не может произойти.
Впервые после тех далеких времен плиссированной блузы приехал сам Карл
Ван Вехтен. Все эти годы они с Гертрудой Стайн состояли в дружбе и в
переписке. Теперь когда он действительно собрался приехать Гертруда Стайн
чуть-чуть волновалась. Когда он приехал они были такие друзья как никогда.
Гертруда Стайн сказала ему что она волновалась. Я нет, сказал Карл.
Среди молодых людей которые бывали у нас когда их бывало так много был
Брэвиг Имс. Нам нравился Брэвиг хотя, как говорила Гертруда Стайн, он был
угодник. Это с ним пришел Эллиот Пол а с Эллиотом Полом Транзишн.
Нам нравился Брэвиг Имс но Эллиот Пол нам нравился больше. Он был очень
интересный. Эллиот Пол был новоангличанин но он был сарацин, сарацин каких
иногда видишь во французских де-
-345-
ревнях где еще сохранилась порода потомков вассалов какого-нибудь
крестоносца Такой был Эллиот Пол. В нем была некая не загадочность но
эфемерность, на самом деле он понемногу явился а потом так же постепенно
исчез, и явились Эжен Холас и Мария Холас. Они, однажды явившись, остались в
своем явлении.
В это время Эллиот Пол сотрудничал в Пэрис Чикаго Трибъюн и писал для
них цикл статей о творчестве Гертруды Стайн, первый разбор ее творчества
действительно для широкой публики. В то же время он делал писателей из
молодых журналистов и корректоров. Он подсказал Брэвигу Имсу начало для его
первой книги. Жена профессора, неожиданно прервав его в середине разговора и
сказала, начните вот с этого. То же он делал и для других. Он играл на
аккордеоне как не умел на нем играть никто другой кто с ним не родился и он
разучил и играл для Гертруды Стайн в скрипичном сопровождении Брэвига Имса
любимую частушку Гертруды Стайн Тропа одинокой сосны, Джун зовут меня, очень
скоро я.
Песня Тропа одинокой сосны имела для Гертруды Стайн непреходящее
обаяние. У Милдред Олдрич она была на пластинке и когда мы приезжали на
полдня к ней в Юири Гертруда Стайн неизменно ставила на граммофон Тропу
одинокой сосны и крутила ее снова и снова Песня нравилась ей сама по себе а
еще во время войны ее заворожила магия книги Тропа одинокой сосны как
солдатского чтения. Как часто какой-нибудь солдат в госпитале если он
успевал к ней особенно привя-
-346-
заться, ей говорил, я однажды читал отличную книгу, называется Тропа
одинокой сосны, знаете такую. В конце концов одну книгу раздобыли для
нимского гарнизона и она лежала у кровати каждого раненого солдата. Они не
очень много ее читали, насколько она могла судить, иногда не больше абзаца
за несколько дней, но у них срывался голос когда они о ней говорили, а те
кто были Гертруде Стайн особенно преданы часто предлагали ей взять почитать
эту очень замусоленную и рваную книгу.
Она читает все что угодно, и она ее естественно прочла и пришла в
недоумение. В ней почти ничего не происходило и не было ни увлекательного
сюжета, ни приключений, а она была очень хорошо написана и в основном
состояла из описаний горного пейзажа. Потом ей однажды попались
воспоминания одной южанки которая рассказывала вещь не менее удивительную,
как во время гражданской войны горцы в армии южан по очереди читали Les
Miserables* Виктора Гюго, ведь опять же там почти нет сюжета и много
описаний. Но Гертруда Стайн признает что точно так же как солдатики любили
книгу Тропа одинокой сосны она любит песню и Эллиот Пол играл ее для нее на
аккордеоне.
Однажды Эллиот Пол вошел очень взволнованно, он казалось обычно
испытывал сильное волнение но его не показывал и не выражал. Но на этот раз
он его показал и выразил. Он сказал что хочет с Гертрудой Стайн
посоветоваться. Ему предложи
* Отверженные (фр.)
-347-
ли издавать журнал в Париже и он раздумывал браться или не браться.
Гертруда Стайн естественно целиком была за то чтобы браться. В конце
концов, как она сказала, мы же хотим чтобы нас печатали. Пишешь для себя и
для чужих но как те же самые чужие услышат тебя без помощи отчаянного
издателя.
Но она любила Эллиота Пола и не хотела чтобы он чересчур рисковал. Я не
рискую, сказал Эллиот Пол, деньги на несколько лет вперед гарантированы. Ну
тогда, сказала Гертруда Стайн, верно одно никто не будет таким прекрасным
издателем как вы. Вы не замкнуты на себе и понимаете что вы чувствуете.
Транзишн появился и конечно он для всех много значил. Элиот Пол очень
продуманно отбирал все что он хотел поместить в Транзишн. Он сказал что
боится как бы журнал не сделался слишком популярным. Если подписчиков станет
больше двух тысяч, я ухожу, говорил он.
Он отобрал для первого номера Транзишн Толкование, первый опыт
самообъяснения Гертруды Стайн написанный в Сен-Реми. Потом Любовную историю
раз у жены есть корова. Он всегда относился к этой истории с большим
воодушевлением. Ему, для Транзишн, понравились Сделано за милю, описание
картин которые понравились Гертруде Стайн и позднее новелла о дезертирстве
Если он думает. Он преследовал вполне определенную цель постепенно открывать
публике глаза на творчество тех писателей которые его интересовали и как я
уже говорила он очень продуманно отбирал то что
-348-
ему было нужно. Его очень интересовал Пикассо и стал очень глубоко
интересовать Хуан Грис и после его смерти он напечатал в переводе в защиту
живописи статью Хуана Гриса которую уже напечатали по-французски в
Трансатлантик Ревью, и напечатал плач Гертруды Стайн Жизнь и смерть Хуана
Гриса и ее Одного испанца.
Эллиот Пол постепенно исчез и появились Эжен и Мария Холас
Транзишн сделался толще. По просьбе Гертруды Стайн Транзишн перепечатал
Нежные пуговицы, напечатал библиографию всех ее произведений на то время и
позднее напечатал ее оперу Четверо святых. За эти напечатания Гертруда Стайн
была очень признательна В последних номерах Транзишн ничего ее не
печаталось. Транзишн умер.
Из всех маленьких журнальчиков которые, как любит цитировать Гертруда
Стайн, умерли за свободу стиха, самые наверное молодым и самым полным сил
был Блюз. Его редактор Чарльз Генри Форд приезжал в Париж и он был молод и
полон сил как и его Блюз а также честен что также приятно. Гертруда Стайн
считает что из молодых людей только у него и у Роберта Коутса есть
самостоятельное ощущение слова
В это время оксфордцы и кембриджцы время от времени появлялись на рю де
Флерюс. Один из них привел Бруэра из фирмы Пэйсон и Кларк.
Бруэр интересовался творчеством Гертруды Стайн и хотя он не давал
никаких обещаний они обсуждали возможности напечатания какой-нибудь ее книги
его фирмой. Она как раз написала корот-
-349-
кий роман под названием Роман и работала над другим коротким романом
который назывался С приятностью церковь в Люси и который она называет
романом о романтической красоте и природе и который похож на гравюру. По
просьбе Бруэра она написала аннотацию к этой книге в виде рекламы и он
телеграфировал свой восторг. Тем не менее он хотел начать со сборника
коротких вещей и она предложила что в таком случае пусть он соберет все ее
короткие вещи об Америке и назовет сборник Полезные знания. Это было
исполнено.
Парижских галерейщиков которые любят риск в своем деле много, в Америке
издателей которые любят риск в своем деле нет. В Париже есть галерейщики как
Дюран-Рюэль который дважды терпел банкротство поддерживая импрессионистов,
как Воллар у Сезанна, Саго у Пикассо и Канвейлер у всех кубистов. Они как
могут делают деньги и они постоянно покупают что-то такое что не имеет
сиюминутного спроса и настойчиво покупают и покупают до тех пор пока не
создадут соответствующую публику. А рискуют эти рисковые головы потому что
считают нужным. Есть другие которые выбрали хуже и обанкротились полностью.
У самых рисковых парижских галерейщиков принято рисковать. Издатели не
рискуют думаю что по многим причинам. Из издателей рисковал разве что Джон
Лейн. Он может быть умер не очень богатым но очень хорошо жил и в меру
богатым умер.
Мы надеялись что вдруг таким издателем окажется Бруэр. Он напечатал
Полезные знания, это
-350-
имело для него вовсе не те последствия на которые он рассчитывал и
вместо того чтобы продолжать постепенно создавать Гертруде Стайн публику он
начал тянуть, а потом отказал. Думаю что это было неизбежно. Тем не менее
так было дело как оно было и как оно продолжало быть дальше.
Тогда я начала размышлять о том чтобы самой публиковать Гертруду Стайн.
Я попросила ее придумать название моему изданию и она засмеялась и сказала,
назовите его Простое издание. И это и есть Простое издание.
Все что я знала о том чем мне предстоит заниматься это что книгу надо
сперва напечатать а потом распространить, то есть продать.
Я со всеми поговорила о том как нужно делать то и другое.
Сначала я думала взять кого-нибудь в компаньоны но эта мысль быстро мне
разонравилась и я решила все делать сама
Гертруда Стайн хотела чтобы первая книга С приятностью церковь в Люси
выглядела как школьный учебник и была в голубом переплете. После печати у
меня на очереди была другая проблема проблема распространения. На этот счет
я получила много советов. Некоторые советы оказались хорошими а некоторые
оказались плохими. Уильям А. Брэдли, друг и утешитель парижских писателей,
сказал подписаться на Еженедельник издателя. Это был несомненно мудрый
совет. Он мне помог кое-что узнать о моем новом деле но по-настоящему трудно
было пробиться к книгопродавцам. Ральф Черч, философ и друг, сказал,
держитесь книгопро-
-351-
давцев, в первую и в последнюю очередь. Прекрасный совет но как же
пробиться к книгопродавцам. В это самое время любезная подруга сказала что
попросит переписать для меня старый список книгопродавцев в одном
издательстве. Список прислали и я стала рассылать свои проспекты. Проспект
мне сначала нравился но потом я решила что он не совсем такой как надо. Тем
не менее я все-таки получила заказы из Америки и без большого труда окупила
свои расходы и воодушевилась.
Заниматься распространением в Париже было легче и труднее одновременно.
Устроить так чтобы книгу выставили на витрину во всех магазинах где
продавались английские книги было легко. Это событие доставило Гертруде
Стайн детскую радость доходившую почти до экстаза. Она никогда прежде не
видела своей книги на витрине книжного магазина, кроме разве что Десяти
портретов во французском переводе, и проводила все свои дни бродя по Парижу
разглядывая экземпляры С приятностью церковь в Люси на витринах и приходя и
мне об этом рассказывая.
Те книги продали тоже а потом я препоручила работу по Парижу
французскому агенту потому что половину того года меня в Париже не было.
Поначалу это сработало но в итоге не очень. Впрочем нужно учиться всякому
ремеслу.
Я решила сделать следующей моей книгой Как писать и не вполне
удовлетворенная оформлением Церкви в Люси хоть она и выглядела как школьный
учебник решила печатать эту следующую книгу в Дижоне и эльзевиром. Опять же
были трудности с переплетом.
-352-
Я стала действовать тем же манером чтобы продать Как писать но начала
понимать что мой список книгопродавцев устарел. Еще мне сказали что на всех
этапах с ними нужно вести переписку. С письмами мне помогла Эллен дю Пуа.
Еще мне сказали что нужны рецензии. Эллен дю Пуа здесь тоже пришла на
помощь. И что нужна реклама. Реклама заведомо встала бы слишком дорого;
деньги мне нужны были на мои книги,
ведь планы у меня делались все грандиозней и грандиозней. С рецензиями
было сложно, Гертруду Стайн всегда много поминают в юмористическом духе, как
Гертруда Стайн всегда говорит себе в утешение, меня все-таки цитируют, это
значит мои слова и мои предложения все-таки залезают им в печенки хоть они
этого и не знают. Было сложно получить серьезные рецензии. Многие писатели
пишут ей восторженные письма но даже тогда когда положение им позволяет до
рецензий на книги они не дописываются. Гертруда Стайн любит цитировать
Браунинга когда тот познакомился на званом обеде с одним знаменитым
литератором и литератор подошел к Браунингу и долго и в самых хвалебных
выражениях говорил ему о его стихах. Браунинг слушал а потом спросил,
напечатаете ли вы то что вы сейчас сказали. Ответа разумеется не
последовало. В случае Гертруды Стайн бывали достойные исключения, Шервуд
Андерсон, Эдит Ситуэлл, Бернар Фай и Луис Бромфильд.
Я также напечатала в ста экземплярах очень красиво выпущенное в Шартре
издание поэмы Гертруды Стайн Дружба увяла прежде чем увяли
-353-
ее цветы. Эти сто экземпляров разошлись очень быстро.
Меня больше удовлетворяло оформление Как писать но всегда вставал
вопрос переплета. Во Франции практически невозможно сделать приличный
твердый переплет, свои книги французские издатели одевают только в бумажные
обложки. Это меня очень беспокоило.
Как-то вечером мы пошли на званый вечер к Жоржу Пупэ, нежному другу
авторов. Там я встретила Мориса Дарантьера. Это он печатал Становление
американцев и он всегда справедливо гордился этой книгой и как книгой и как
изданием. Он уехал из Дижона и стал печатать книги на ручном станке в
предместье Парижа и печатал очень красивые книги. Он человек добрый и я
естественно стала с ним делиться своими бедами. Послушайте, сказал он, у
меня есть решение. Но я его перебила, не забывайте я не хочу чтобы эти книги
дорого стоили. Ведь Гертруду Стайн читают писатели, студенты, библиотекари и
молодежь а у них очень мало денег. Гертруде Стайн нужны не коллекционеры а
читатели. Вопреки ее желанию ее книги очень часто становились книгами для
коллекционеров. За Нежные пуговицы и Портрет Мейбл Додж платят большие
деньги а ей это не нравится, она хочет чтобы ее книги не имели а читали. Да
да, сказал он, понимаю. Нет вот что я предлагаю. Мы наберем вашу книгу
монотипом а это встанет сравнительно дешево, я вам обещаю, потом я их
оттисну вручную на хорошей но не очень дорогой бумаге и ваши книги будут
прекрасно
-354-
отпечатаны а вместо обложки я переплету их в плотную бумагу как
Становление американцев, в совершенно такую же бумагу, и сделаю маленькие
футляры точно по размеру книг, аккуратные маленькие футляры, и пожалуйста. И
я сумею продать их по доступной цене. Да, вы увидите, сказал он.
Мои планы делались все грандиозней я хотела теперь сделать трехтомник,
чтобы вначале были Оперы и пьесы, дальше Матисс, Пикассо и Гертруда Стайн и
Два рассказа покороче, а еще дальше Два длинных стихотворения и много
коротких. Морис Дарантьер сдержал слово. Он напечатал Оперы и пьесы и это
прекрасная книга и доступная по цене сейчас он печатает вторую книгу Матисс
и Пикассо и Гертруда Стайн и два небольших рассказа. Теперь у меня новый
список книгопродавцев и я снова взялась за дело.
Как я уже говорила после возвращения из Англии и чтения лекций мы
давали очень много приемов, было много поводов для приемов, приезжали все
Ситуэллы, приезжал Карл Ван Вехтен. Приезжал Шервуд Андерсон. И вдобавок
было много других поводов для приемов.
Это тогда Гертруда Стайн и Бернар Фай познакомились во второй раз и на
этот раз им было о чем разговаривать. Гертруда Стайн находила
интеллектуальное общение с ним очень плодотворным и утешительным. Они
понемногу становились друзьями.
Помню однажды я вошла в комнату и услышала как Бернар Фай говорит что
три человека
-355-
первой величины которых он встречал в своей жизни это Пикассо, Гертруда
Стайн и Андре Жид а Гертруда Стайн совсем просто осведомилась, да совершенно
верно но причем здесь Жид. Приблизительно годом позже он сказал ей имея в
виду этот разговор, и я не уверен что вы не были правы.
Шервуд приезжал в Париж той зимой и он был прелесть. Он получал
удовольствие от жизни а мы получили удовольствие от его общества. Его
обхаживали как литературного льва а он надо сказать был весьма появляющийся
и исчезающий лев. Помню его пригласили в Пен-Клуб. Натали Барни и какой-то
длиннобородый француз его представляли. Он хотел чтобы Гертруда Стайн тоже
пошла. Она сказала что его она очень любит но Пен-Клуб нет. Натали Барни
приходила ее приглашать. Гертруда Стайн, застигнутая на улице во время
прогулки с собакой, сказалась больной. На следующий день пришел Шервуд. Ну
как было, спросила Гертруда Стайн. Да так, ответил он, это же не в мою честь
был прием, это был прием в честь одной большой шишки а она была точь-в-точь
товарняк сошедший с рельсов.
Мы поставили
в мастерской электрические батареи, мы как сказала бы наша
прислуга-финка делались современными. Ей трудно понять почему мы не
современнее. Гертруда Стайн говорит что если уходишь на десять голов вперед
головой то естественно в обыденной жизни все старомодно и правильно. А
Пикассо прибавляет, думаете Микеланджело обрадовался бы ренессансному креслу
в подарок, нет он хотел греческую монету.
-356-
Мы действительно поставили электрические батареи и Шервуд пришел и мы
устроили ему рождественский ужин. Электричество пахло и было безумно жарко
но всем нам было приятно потому что это был милый ужин. Шервуд в одном из
своих наимоднейших шейных платков выглядел как обычно красавцем. Шервуд
Андерсон правда хорошо одевается а сын его Джон следует папиному примеру.
Джон и его сестра пришли вместе с отцом. Пока в Париже был Шервуд сын Джон
был неловкий застенчивый мальчик. На следующий день после того как Шервуд
уехал Джон пришел, непринужденно сел на подлокотник дивана и был заглядение
и он это знал. Для внешнего взгляда не изменилось ничто но он изменился и он
это знал.
Это в тот приезд Шервуда Андерсона у них с Гертрудой Стайн были все эти
забавные разговоры о Хемингуэе. Общество друг друга доставляло им огромное
удовольствие. Они выяснили что для них обоих величайшим американским героем
был и остается Грант. Они оба равнодушно относились к Линкольну. Они всегда
и все еще любили Гранта Они даже решили вместе писать жизнеописание Гранта.
Гертруда Стайн все еще с удовольствием думает об этой возможности.
Тогда мы правда давали очень много приемов и очень часто приходила
графиня Клермон-Тоннер. Они с Гертрудой Стайн чувствовали взаимную приязнь.
Жизнь воспитание интересы у них были совершенно разные но им доставляло
радость взаимное понимание. Еще только у них двоих из всех женщин с кем они
поддерживали знакомство были
-357-
по-прежнему длинные волосы. Гертруда Стайн всегда носила волосы короной
на макушке на старинный манер и никогда не меняла прическу.
На один из этих приемов мадам де Клермон-Тоннер сильно опоздала, уже
почти все разошлись, а волосы у нее были острижены. Вам нравится, спросила
она. Нравится, ответила Гертруда Стайн. Ну, сказала мадам де Клермон-Тоннер,
если вам нравится и моей дочери нравится а ей нравится то я рада В тот вечер
Гертруда Стайн мне сказала, думаю мне тоже придется. Стригите, сказала она и
я стала стричь.
Я все еще стригла на следующий вечер, я отстригала понемногу весь день
и уже осталась только маленькая шапочка волос когда вошел Шервуд Андерсон.
Ну вам нравится, очень робко спросила я. Нравится, ответил он, так она
похожа на монаха
Пикассо, я уже говорила, когда увидел то сперва рассердился и сказал а
мой портрет но очень быстро прибавил, в конце концов все при ней.
Мы купили наш загородный дом, тот который мы видели только с
противоположной стороны долины, и перед самым отъездом мы нашли белого
пуделя Баскета. Это был маленький щенок на маленькой собачьей выставке
неподалеку от нас, у него были голубые глаза, розовый нос, белая шерстка, и
он прыгнул прямо на руки к Гертруде Стайн. С новым щенком и на новом форде
мы поехали в наш новый дом и были чрезвычайно довольны и тем и другим и
третьим. Хотя Баскет сейчас большой неуклюжий пудель, он по-прежнему норовит
-358-
забираться на колени к Гертруде Стайн и там сидеть. Она говорит что
вслушиваясь в ритм его ла-
кания она поняла чем отличаются предложения от абзацев, что абзацы
эмоциональны а предложения нет.
Бернар Фай приезжал тем летом и у нас жил. Они с Гертрудой Стайн
говорили сидя в саду обо всем на свете, о жизни, и об Америке, и о самих
себе и о дружбе. Тогда они упрочили дружбу, одну из четырех постоянных дружб
в жизни Гертруды Стайн. Даже Баскета он терпел ради Гертруды Стайн. Недавно
Пикабиа подарил нам крошечную мексиканскую собачку, назвали Байрон. Байрон
нравится Бернару Фаю сам по себе. Гертруда Стайн его дразнит и говорит что
естественно ему больше нравится Байрон потому что Байрон американец а ей
точно так же естественно больше нравится Баскет потому что Баскет француз.
С Билиньеном связано одно новое старое знакомство. Как-то раз Гертруда
Стайн пришла домой со своей прогулки в банк и вынимая из кармана визитную
карточку сказала, завтра мы обедаем у Бромфильдов. Давным-давно во времена
Хемингуэя Гертруда Стайн познакомилась с Бром-фильдом и его женой и время от
времени имело место поверхностное знакомство, имело место даже поверхностное
знакомство с его сестрой, и вдруг мы обедаем у Бромфильдов. С чего это,
спросила я, с того совершенно сияя ответила Гертруда Стайн, что он большой
знаток по части садов.
Мы пообедали у Бромфильдов и он действительно большой знаток по части
садов и по части
-359-
цветов и по части почв. Они с Гертрудой Стайн сперва друг другу
понравились как садовники, потом они друг другу понравились как писатели.
Гертруда Стайн о нем говорит что он настолько же американец как Джейн
Скадер, настолько же американец как наши парни, но не такой серьезный.
Однажды Холасы привели в дом издателя Фермана. Он был исполнен как
бывают многие издатели воодушевления и исполнен воодушевления насчет
Становления американцев. Но оно же ужасно длинное, тысяча страниц, сказала
Гертруда Стайн. Ну а нельзя, спросил он, сократить страниц до четырехсот.
Да, ответила Гертруда Стайн, наверное можно. Ну так сократите а я опубликую,
сказал Ферман.
Гертруда Стайн подумала и сократила. Она потратила на это часть лета и
Брэдли как и мы с ней решил что получилось неплохо.
Между тем Гертруда Стайн рассказала о предложении Фермана Эллиоту Полу.
Все ничего пока он тут, сказал Эллиот Пол, но когда он вернется ребята ему
не дадут. Кто такие ребята не знаю но они безусловно не дали. Эллиот Пол был
прав. Несмотря на усилия Роберта Коутса и Брэдли ничего не вышло.
Между тем известность Гертруды Стайн среди французских писателей и
читателей постоянно росла. Переведенные отрывки из Становления американцев и
Десять портретов их заинтересовали. Это тогда Бернар Фай написал статью о ее
творчестве которую напечатали в Ревю Европеен. Они также напечатали и ее
единственную вещь напи-
-360-
санную по-французски небольшой сценарий о собаке Баскете.
Их очень интересовало и ее позднее и ее раннее творчество. Марсель
Брион написал серьезную критическую статью в Эшанж сравнивая ее творчество с
Бахом. С тех пор он пишет в Ле Нувель Литтерер о каждой ее новой книге по
мере их появления. Особенно его поразило эссе Как писать.
Примерно в это же время Бернар Фай переводил из Трех жизней кусок из
Меланкты для сборника Десять американских новеллистов, предваряемого его
статьей из Ревю Европеен. Как-то он пришел и прочел перевод из Меланкты
вслух. У нас была мадам де Клермон-Тоннер. и ее очень поразил его перевод.
Как-то вскоре после этого она спросила можно ли ей прийти потому что ей
нужно поговорить с Гертрудой Стайн. Она пришла и сказала, пришло время когда
вас должна узнать широкая публика. Лично я верю в широкую публику. Гертруда
Стайн тоже верит в широкую публику но путь был всегда прегражден. Нет,
сказала мадам де Клермон-Тоннер, путь можно открыть. Давайте подумаем.
Она сказала что открывать его нужно переводом большой книги, крупной
книги. Гертруда Стайн предложила Становление американцев и рассказала как
оно сокращалось для одного американского издателя страниц до четырехсот. Это
как раз то что нужно, сказала она. И ушла
В конце концов и не долго медля господин Бутло из Стока увиделся с
Гертрудой Стайн и решил опубликовать книгу. Были некоторые трудности с
-361-
нахождением переводчика но в конце концов и это уладилось. За перевод
взялись Бернар Фай с помощницей баронессой Сейер, и это тот перевод который
выйдет этой весной и который заставил Гертруду Стайн сказать этим летом, я
знала что это замечательная книга по-английски, но она, не могу сказать что
едва ли не более но не менее замечательная по-французски.
Прошлой осенью в тот день когда мы вернулись из Билиньена в Париж я как
обычно занималась разными делами а Гертруда Стайн пошла купить гвоздей на
базар на рю де Ренн. Там она встретила Гевару, чилийскою художника, и его
жену. Они наши соседи и они сказали, приходите завтра на чай. Гертруда Стайн
сказала, мы же только вернулись, обождите немного. Все-таки приходите,
сказала Мерод Гевара. И потом прибавила, будет кое-кто кого вам будет
приятно видеть. Кто же это, с неизменным любопытством спросила Гертруда
Стайн. Сэр Фрэнсис Роуз, сказали они. Ладно придем, сказала Гертруда Стайн.
В то время она уже ничего не имела против знакомства с Фрэнсисом Роузом. Мы
тогда познакомились и он конечно тут же пошел с нею к нам. Он, как нетрудно
себе представить, был от волнения совершенно пунцовый. А.что, спросил он,
сказал Пикассо, когда увидел мои картины. Когда он увидел их в первый раз,
ответила Гертруда Стайн, он сказал, они хотя бы не такие bete* как все
остальные. А в другие разы, спросил он. А в другие разы он всегда
* Дурацкий (фр.)
-362-
идет в угол и вертит холст когда их рассматривает но не говорит ничего.
С того раза мы много видимся с Фрэнсисом Роузом но интерес к картинам
Гертруда Стайн не утратила. Он написал этим летом дом с противоположной
стороны долины откуда мы его впервые увидели и написал водопад воспетый в С
приятностью церковь в Люси. Он также написал ее портрет.
Он нравится ему и нравится мне но она не уверена нравится ли он ей, но
как она только что сказала, может быть нравится. Этим летом мы очень приятно
провели время, и Бернар Фай и Фрэнсис Роуз оба очаровательные гости.
Молодого человека который познакомился с Гертрудой Стайн посылая ей
прелестные письма из Америки зовут Пол Фредерик Баулз. Гертруда Стайн о нем
говорит что он мил и благоразумен летом но ни мил ни благоразумен зимой.
Летом Аарон Коупланд нас навестил вместе с Баулзом и Баулз нам ужасно
понравился. Он рассказал Гертруде Стайн и ее это очень расположило что
Коупланд угрожающе ему сказал когда как обычно зимой он не был ни мил ни
благоразумен, если теперь в свои двадцать ты не будешь работать, то в свои
тридцать тебя никто не будет любить.
Вот уже какое-то время многие, и издатели, просят Гертруду Стайн
написать свою автобиографию а она всегда отвечает, вряд ли.
Она начала меня дразнить и говорить, что это я должна написать свою
автобиографию. Вы только подумайте, говорит она, сколько денег вы
заработаете. Потом она начала придумывать названия
-363-
для моей автобиографии. Моя жизнь рядом с великими, Жены гениев с
которыми я сидела, Мои двадцать пять лет с Гертрудой Стайн.
Потом она начала становиться серьезнее и сказала, но серьезно вам
правда нужно написать свою автобиографию. В конце концов я пообещала что
если летом я выберу время то напишу свою автобиографию.
В то время когда Форд Мэдокс Форд издавал Трансатлантик Ревью он
однажды сказал Гертруде Стайн, я неплохой писатель и неплохой издатель и
неплохой бизнесмен но мне очень трудно одновременно быть и тем и другим и
третьим.
Я неплохая хозяйка и неплохая садовница и неплохая рукодельница и
неплохая секретарша и неплохая издательница и неплохой собачий врач и мне
приходится быть ими всеми одновременно и трудно быть еще и хорошим автором.
Месяца полтора тому назад Гертруда Стайн сказала, что-то я не вижу
чтобы вы когда-нибудь собрались написать эту самую автобиографию. Знаете что
я сделаю. Я ее напишу за вас Я ее напишу так же просто как Дефо написал
автобиографию Робинзона Крузо. И она написала и вот она.
-364-
Приложение
ПАРИЖ. ФРАНЦИЯ
Алиса Токлас сказала, жена бабушкиного родственника рассказывала что ее
дочь вышла замуж за сына инженера который строил Эйфелеву башню только
фамилия его была не Эйфель.
Когда нам печатали книгу во Франции мы пожаловались на плохую
центровку. А-а это потому, объяснили нам, что теперь пользуются машинами,
машины обязательно допустят неточность, они не обладают человеческим
разумом, ум человека естественно исправляет оплошность руки а у машины
конечно бывают ошибки. Мы все естественно стали жить во Франции именно
потому что там есть научные методы, машины и электричество но в
действительности для Франции совершенно не это составляет действительное
содержание жизни. Жизнь это традиция и человеческая натура
И поэтому в начале двадцатого века когда нужно было найти новый путь
естественно нужна была Франция.
Действительно нет, для французов действительно ничего не важно, кроме
повседневной жизни и земли, которая ее им дает и защиты от врага.
Правительство важно разве что поскольку оно берет ее на себя.
-365-
Я так хорошо помню это было в войну 1914 года, и все они были французы
и говорили о праве голоса для женщин и одна из слушавших женщин сказала, о
Господи, мне приходится столько стоять в очередях за углем и за сахаром и за
свечами и мясом, а теперь еще и голосовать, о Господи.
В конце концов это не имеет значения, и они знают что это не имеет
значения.
Когда я только приехала в Париж и еще много лет потом у меня была
служанка, мы очень дружили ее звали Элен. Однажды совершенно случайно, не
понимаю как это получилось потому что мне было нисколько не интересно, я
спросила ее, Элен, в какую политическую партию входит ваш муж. Она всегда
мне обо всем рассказывала, даже о чисто семейных неурядицах с домашними и с
мужем, но когда я это спросила, в какую партию входит ваш муж, ее лицо
напряглось. Она не ответила. Что с вами Элен, спросила я, это секрет. Нет
мадемуазель, ответила она, это не секрет но об этом не говорят. Не говорят о
том в какую политическую партию ты входишь. Даже у меня есть политическая
партия но я не говорю какая.
Я жила во Франции уже много лет но я удивилась и стала спрашивать и они
все оказались такие. Они все отвечали теми же словами, это не секрет но об
этом не говорят. Сын не знал политическую партию отца а отец партию сына.
Именно поэтому сейчас оказался таким недолговечным народный фронт. Они
говорили, все они должны были говорить и весь день говорить о том какая
полити-
-366-
ческая партия их партия и поэтому конечно он не мог существовать долго.
Просто не мог.
Нет, во Франции действительно не важна известность, традиция и их
частная жизнь и почва которая всегда что-нибудь производит, вот что имеет
значение.
Миссис Линдберг была в Париже и мы разговаривали. В Америке она конечно
страдала они страдали от чрезмерной известности. В Англии на них не обращали
внимания но и Линдберги и Англия знали что они есть. Во Франции вам уделяют
внимание при встречах но не докучают потому что в промежутках не знают что
вы есть.
Когда Фаня Маринофф приехала в Париж она сказала что хотела бы
познакомиться с такими-то. К сожалению, сказала я, я их не знаю. Но вы
знаете кто они такие, о да, сказала я, приблизительно. Затем она назвала
других. Кого-то я знала, кого-то нет. Она недоумевала, в Нью-Йорке, сказала
она, если бы я знала вас я бы знала их. Да-да, сказала я, но не в Париже. Не
зная тех кого знают в Париже вы не расписываетесь в том что не знают вас,
ведь кого не знаешь того не знаешь.
И вот по некоторым если не по всем этим причинам Париж был там где был
двадцатый век.
Еще было важно то что в Париже делалась мода Конечно временами казалось
что в Барселоне и в Нью-Йорке одеваются лучше но на самом деле нет.
Именно в Париже делалась мода, а мода всегда важна именно в великие
времена когда все меняется, потому что она всегда возносит уносит
-367-
или разносит по воздуху нечто совершенно ни с чем не связанное.
Мода -- это самое то, если говорить об абстрактном. То единственное,
что лишено практического смысла и поэтому совершенно естественно, что в
Париж, который всегда делал моду все и поехали в 1900 году. Всем нужен был
фон традиции глубокой убежденности в том, что мужчины женщины и дети не
меняются, что наука интересна,
но ничего не меняет, что демократия существует, но правительства не
имеют значения, если только они не взимают слишком большие налоги и не дают
победить врагу, вот какой фон всем был нужен в 1900 году.
Смешно выходит с искусством и литературой, а мода из той же области.
Два года назад все говорили что Франция кончилась, становится
второстепенной державой и прочее и прочее. Но я сказала а я так не думаю
потому что никогда еще за долгие годы никогда еще с самой войны не было
таких разных и прелестных и таких французских шляп как теперь. Они есть не
только в хороших магазинах, а во всякой настоящей шляпной мастерской есть
хорошенькая французская шляпка.
Я не считаю что когда характерные для страны искусство и литература
развиваются активно и бурно, я не думаю что эта страна переживает упадок.
Нет более верного пульса нации чем характерная для нее художественная
продукция, которая не имеет ничего общего с материальной жизнью. А значит
когда в Париже шляпки прелестные
-368-
и французские и повсюду с Францией все в порядке. Итак Париж был
подходящим местом для тех из нас кому предстояло создать искусство и
литературу двадцатого века, вполне естественно.
Так много всего. Так легко меняют род занятий, очень консервативны
очень традиционны и легко меняют род занятий. Могут начать булочником а
потом становятся агентом по продаже недвижимости а потом становятся
банкиром и все один человек и все за десять лет а потом уходят на пенсию.
Еще забавно что для того чтобы что-то сделать, целиком построить дорогу
поставить три телеграфных столба построить ярмарочный балаган или срубить
одно дерево всегда нужно семь человек. Безразлично что именно они делают, их
всегда семь, или приблизительно семь человек, несколько нужно для того чтобы
говорить, несколько для того чтобы смотреть и один два для того чтобы
работать, так что что бы ни делали нужно всегда приблизительно одно и то же
количество человек. А это было как раз очень важно потому что опять же
создавало фон нереальности очень нужный всякому кто создавал двадцатый век.
Девятнадцатый век знал что делать с каждым человеком а двадцатый век
неизбежно должен был не знать и значит местом где нужно было быть был Париж.
И потом как они относятся к умершим, так по-дружески так просто
по-дружески а смерть хотя неизбежна не горе хотя и бывает и не потрясение.
Во Франции нет разницы между жизнью и смертью и это тоже неизбежно делало ее
фоном двадцатого века.
-369-
Во Франции его естественно делали иностранцы потому что раз все это
было французское это была их традиция а раз это была традиция это не был
двадцатый век.
Везде но особенно во Франции так много иностранцев. Однажды мы гуляли с
Джеральдом Бернесом и он заметил что получится прелестная книга если собрать
все афоризмы которые не верны.
Мы вспомнили много и в том числе близость знакомства порождает
презрение и никто не герой для своего лакея. Мы решили что в добрых
девяноста процентах случаев как раз наоборот.
Близость знакомства не порождает презрения. Напротив чем знакомей тем
редкостней и тем прекрасней. Например квартал в котором вы живете, он
красивый, это редкостное и прекрасное место и уезжать оттуда ужасно.
Я помню как-то на улице в Париже я слышала один разговор и он кончался
словами, ну так вот, делать им было нечего, пришлось уехать из своего
квартала. Так вот, делать нечего пришлось уехать из самого лучшего места на
свете, лучшего потому, что они всегда жили именно там.
Такие были парижские кварталы, у нас у всех были свои кварталы, потом
конечно когда мы из них уезжали и в них возвращались они и правда казались
унылыми, совсем не такими как тот красивый квартал где мы живем теперь.
Значит близость знакомства не порождает презрения.
А потом никто не герой для своего лакея. Кому еще на свете даже вам
самому так же приятна
-370-
ваша известность как вашей прислуге она конечно приятна вашей
французской прислуге в этом можно не сомневаться, приятна всей прислуге
бывшей нынешней и будущей.
А теперь какие кварталы Парижа были важны и когда.
С 1900 по 1930 Париж действительно очень изменился. Мне всегда говорили
что Америка изменилась но на самом деле она изменилась меньше чем за эти
годы изменился Париж то есть Париж который видно, но ведь не вспомнить
какой он был раньше и даже не вспомнить какой он теперь.
Тогда мы никто не жили в старых частях Парижа. Мы жили на рю де Флерюс
в квартале столетней застройки, многие из нас жили поблизости и на бульваре
Распай через который тогда еще не пробили поперечные улицы а когда их
пробили то в подвал нашего дома сбежалось все зверье и все крысы и нам
пришлось вызывать парижского крысолова чтобы он нас очистил, интересно есть
ли они еще, они исчезли вместе с лошадьми и громадными фургонами которые
чистили выгребные ямы под домами к которым не подвели новую канализацию,
теперь даже к самым старым домам подвели новую канализацию. Хорошо что они
во Франции ко всему приспосабливаются медленно совершенно меняются но знают
всегда что они такие какие были.
Теперь даже маленький провинциальный городок Белле целое лето ест
грейпфруты, они решили что грейпфруты это необходимая роскошь.
-371-
Наша прежняя прислуга Элен которая была у нас много лет до войны,
узнала от нас что детей надо растить по-другому и более гигиенично и так и
растила но все равно однажды я слышала как она разговаривала со своим
шестилетним сынишкой и спросила его, ты хороший мальчик, да мама ответил он,
и ты очень любишь маму, да мама ответил он, и ты будешь любить маму когда
вырастешь спросила она, да мама ответил он, и тогда она сказала, ты ведь
вырастешь и уйдешь от меня к другой женщине да, да мама, ответил он.
Еще я никогда не забуду как во время гибели Титаника когда все были так
потрясены героизмом и спасением женщин и детей, Элен сказала, по-моему это
совсем неразумно, что толку если женщины и дети останутся одни-одинешеньки,
что у них будет за жизнь, было бы гораздо разумнее, сказала Элен, если бы
они кинули жребий и спасли сколько-нибудь семей целиком намного намного
разумнее, сказала Элен.
Потому-то Париж и Франция и стали естественным фоном искусства и
литературы двадцатого века. Традиция не давала им меняться и все же они
естественно видели вещи какими они были, и принимали жизнь какой она есть, и
в то же время непонятно почему смешивали разные вещи. Иностранцы были для
них не романтикой они были просто фактом, ничего сентиментального не было
они просто были, и потому как это ни странно они стали не делать искусство и
литературу двадцатого века а стали делаться их неизбежным фоном.
-372-
Так вот с 1900 по 1930 те из нас кто жили в Париже не жили в живописных
кварталах даже те кто жили на Монмартре как Пикассо и Брак жили в старых
домах, они жили в домах которым было от силы лет пятьдесят а теперь все мы
живем в очень старом квартале у реки, теперь когда двадцатый век решен и
обрел свой характер нам всем больше хочется жить в домах семнадцатого века,
а не в ателье-казармах как тогда Дома семнадцатого века такие же дешевые как
тогда наши ателье-казармы но теперь нам нужна живописность нам нужно
великолепие нужны простор и воздух которые есть только в старых кварталах.
Это Пикассо сказал на днях когда говорили о сносе нездоровых районов Парижа
но ведь только в нездоровых кварталах есть солнце воздух и простор, и это
правда, и мы все жили там начинающие средние старшие и старые мы все живем в
старых домах в обветшавших кварталах. Впрочем все это вполне естественно.
Знакомство не порождает презрения, все что человек делает каждый день
внушительно и важно и всякое место где человек живет интересно и прекрасно.
И все это так как оно и должно быть.
И вот понемногу делается понятно почему же двадцатому веку, чья
техника, чьи преступления, чья стандартизация начались в Америке,
понадобился фоном Париж, место с такой прочной традицией что они могли
совсем не меняться и выглядеть современно, и с таким полным приятием
реальности что они могли позволить всякому кто хотел испытывать ощущение
нереальности.
-373-
Потом очень многое объясняет их отношение к иностранцам
Для французов разница между иностранцем и местным жителем в конце
концов не очень существенна Иностранцев так много а реальностью обладают для
них только те кто населяют Париж и Францию. В этом они отличаются от всех
остальных. Остальные считают что иностранцы обладают большей реальностью
находясь в своих странах но для французов иностранцы обладают для них
реальностью лишь находясь во Франции. Естественно они приезжают во Францию.
Что как не приехать во Францию может для них быть естественней.
Помню одна прежняя служанка придумала хорошее прозвище иностранцам,
были американцы, они существовали потому что она была наша служанка и мы
для нее были, а потом был кто-то кого она называла creole ecossais* мы так и
не узнали откуда оно взялось.
Конечно все они приехали во Францию многие чтобы писать картины и
естественно они не могли этого делать дома, или сочинять стихи и романы
этого они дома тоже не могли, дома они могли стать зубными врачами она все
про это знала даже еще до войны, американцы практичный народ а лечить зубы
практично. Уж понятно разумеется, самая практичная была она, ведь когда
болел сынишка, конечно она ужасно переживала ведь это был ее сынишка а потом
еще все это нужно было
* Шотландский креол (фр.)
-374-
начинать сначала ведь ей действительно нужно было иметь одного ребенка,
каждый француз должен иметь одного ребенка, прошло два года и теперь опять
все сначала деньги и все остальное. И все-таки почему нет конечно почему
нет.
И вот вся эта простая ясность видения жизни какая она есть, животной и
общественной жизни в человеке какая она есть, ценности человеческой и
общественной и животной жизни измеренной в деньгах какая она есть, не
жестокого и не упрощенного видения, что это сейчас происходит, спросила меня
одна француженка об одном американском писателе, это фальшиво и безыскусно.
Двадцатый век понадобился не столько затем чтобы так сказали они как он
понадобился затем чтобы так сказали все остальные.
Иностранцы не чужие во Франции потому что они всегда там были и делали
то что им там и было положено делать и оставались там иностранцами.
Иностранцы должны быть иностранцами и хорошо что иностранцы иностранцы и что
они неизбежно в Париже и во Франции.
Теперь они наконец начинают понимать, кино и мировая война понемногу
заставили их понимать какой национальности иностранцы. В маленькой гостинице
где мы останавливались нас называли англичанками, нет сказали мы нет мы
американки, наконец кто-то из них немного раздраженный нашим упорством
сказал но ведь это одно и то же. Да, ответила я, как одно и то же французы и
итальянцы. Пожалуй до войны они так бы не сказали и не почувствовали бы
насколько неприя-
-375-
тен ответ. Потом здесь же в провинции у нас была служанка финка и
однажды она пришла совершенно сияющая, удивительно, сказала она, молочница
знает Финляндию, она знает где находится Финляндия, она знает все о
Финляндии, а что, сказала служанка финка, я знала очень образованных людей
которые не знали где Финляндия а она знала. Впрочем знала ли она. Нет но
старинную традицию французской вежливости она соблюдала и это оно и было.
Это у них принято конечно.
Но что у них таки действительно принято так это почитать искусство и
литературу, если вы писатель у вас есть привилегии и иметь эти привилегии
приятно. Никогда не забуду как я ехала из-за города в свой гараж где обычно
я держала машину а гараж был переполнен и более чем переполнен, шел
автомобильный салон, а мне, спросила я, что же мне делать, пойду, сказал
дежурный, пойду погляжу а потом он вернулся и тихо сказал, там есть один
угол и в этот угол я поставил машину Monsieur* академика а рядом поставлю
вашу другие могут стоять снаружи и это правда даже в гараже академик и
писательница главнее даже миллионеров или политиков, правда главнее,
невероятно но факт, полицейские тоже почтительны с художниками и писателями,
ну а это тоже умно со стороны Франции и несентиментально, ведь все же
запоминается в конце концов писателями и художниками эпохи, тот на самом
деле и не живет о ком хорошо не написано и в понимании
* Господина (фр.)
-376-
этого проявляется свойственное французам чувство реальности а вера в
чувство реальности это двадцатый век, люди могут его не испытывать но верить
они в него верят.
Они смешные даже теперь смешные, все крестьяне в деревне, не все
пожалуй но многие ели свой хлеб-вино, теперь они очень аппетитно и правда
мажут на хлеб варенье, вкусное варенье из смеси абрикосов и яблок, как они
бывают одновременно я не совсем понимаю, да может быть поздние абрикосы и
ранние яблоки, оно очень вкусное.
Ну и мы разговаривали и они спросили, вот вы мне скажите, почему палата
депутатов голосует за то чтобы продлить себе жизнь еще на два года, а мы, ну
нам-то конечно как всегда сказать нечего но они-то почему так. Ну сказала я
почему нет, вы это знаете они это знают, и к тому же если они уже там почему
бы им там не остаться. Ну сказали они со смехом пусть у нас будет как в
Испании. Пусть у нас будет гражданская война Ну сказала я а что толку, ведь
после того как они все перестреляли друг друга у них в конце концов снова
будет король во всяком случае сын короля. Почему бы тогда для разнообразия
сказали они, нам не завести себе королевского племянника
Вот такое у них к этому отношение, в жизни важна только повседневность,
и поэтому гангстеры, и поэтому двадцатый век действительно ничему не могли
научить французского крестьянина значит это был подобающий фон для искусства
и литературы двадцатого века
-377-
Импрессионисты.
Двадцатый век не изобрел серийное производство но устроил вокруг него
большой шум, на самом деле серийное производство началось в девятнадцатом
веке, это вполне естественно, машины обязательно делают производство
серийным.
Так что машины и серийное производство, хотя в двадцатом веке вокруг
них и устраивали больше шуму чем в девятнадцатом, это конечно был
девятнадцатый век.
Импрессионисты а они принадлежали девятнадцатому веку положили для себя
целью и идеалом писать одну картину в день, на самом деле две картины в
день, картину утром и картину днем может быть и вообще рано утром в середине
дня и ближе к вечеру. Но в конце концов рука человека имеет предел в конце
концов живопись пишется рукою и на самом деле даже в самом взволнованном
состоянии они редко писали больше двух чаще одну а очень часто не писали и
одной чаще всего не писали и одной в день. У них была мечта о серийном
производстве но как сказал мсье Дарантьер о полиграфии все же не было ни
недостатков ни достоинств машин.
Итак Париж был естественным фоном двадцатою века, Америка слишком
хорошо его знала, слишком хорошо знала двадцатый век чтобы его создать,
Америка была зачарована двадцатым веком и оттого он не стал для нее
материалом для творчества. Англия сознательно отказывалась от двадцатого
века, прекрасно зная что они триумфально создавали двадцатый а двадцатый это
на-
378-
верное будет для них уже многовато, так что они осознанно отвергали
двадцатый век ну а Францию это не волновало, что есть то было а что было то
есть, вот была их не вполне ими сознаваемая точка зрения, их слишком
поглощала повседневная жизнь чтобы их это волновало, к тому же вторая
половина девятнадцатого века не очень их на самом деле интересовала, после
конца романтизма уже нет, они много работали, они всегда много работают, но
вторая половина девятнадцатого века интересовала их на самом деле не очень.
Как обычно говорят крестьяне, всякому году приходит конец, и они любят чтобы
плохая погода не мешала работать, они любят работать, работа это же для них
развлечение, и поэтому хотя их и не интересовала вторая половина
девятнадцатого века но работать они работали. И вот пришел двадцатый век и
может быть он окажется интереснее, если он действительно окажется интереснее
конечно они не станут так много работать, когда интересно то действительно
иногда не удается работать, работа может даже делаться помехой и отвлекать.
Итак пришел двадцатый век он начался 1901 годом.
-379-
О ГЕРТРУДЕ СТАЙН
Книга "Париж Франция" была написана в 1939 году и увидела свет в тот
день, когда немецкие войска вошли в Париж. К тому времени ее автор, Гертруда
Стайн, уже вкусившая поздней славы, превратилась из "монпарнасской Сивиллы",
эксцентричной фигуры авангардно-артистического бомонда, в живого
литературного классика современности. Уже был опубликован, и по-английски, и
во французском переводе, ее magna opus, "Становление американцев" --
"История одной семьи, которая постепенно становится историей всех знакомых
семьи а потом историей всех и каждого" -- произведение, которое и сама
писательница, и позднейшая критика ставила в один ряд с "Улиссом" Джойса и
"Поисками утраченного времени" Пруста. Также вышла в свет автобиография
"Алисы Б. Токлас" -- собственная автобиография, написанная от третьего лица,
легенда о себе и своем окружении, своеобразная история и теория искусства
двадцатого века, вызвавшая скандал в парижских литературно-артистических
кругах и принесшая Гертруде Стайн долгожданное признание на родине, в
Америке. Шервуд Андерсон, Эрнест Хемингуэй, Скотт Фицджеральд, Торнтон
Уайлдер в разное время объявляли ее мэтром и изъявляли ей свое восхищение,
почтение и признательность.
-380-
Гертруда Стайн родилась в 1874 году в Пенсильвании. Ее раннее детство
прошло в Европе,
в Вене и Париже, куда ее отца, коммерсанта Дэниэла Стайна, привели
деловые интересы. Потом семейство возвратилось в Америку. Из четырех лет,
проведенных Гертрудой Стайн в Гарвардском университете за изучением
психологии и медицины,
первые два, с 1893 по 1895, она была студенткой психолога Уильяма
Джеймса Его брат, знаменитый американский романист Генри Джеймс, был
писателем, наиболее почитаемым ею из ее старших современников, которого она
отчасти считала своим предшественником.
В 1903 году Гертруда Стайн поехала в Париж и в итоге прожила во Франции
без малого полвека, до самой своей смерти в 1946 году. Еще раньше в Париж
приехал ее старший брат Лео Стайн, один из первых ценителей, толкователей и
собирателей живописи западноевропейского авангарда.
В антикварных лавках и небольших галереях брат и сестра отыскивали и
покупали
полотна тогда никому не известных художников. В доме Стайнов начали
собираться "таланты и поклонники", приверженные новому искусству, и более
чем на тридцать лет он стал артистическим салоном, где бывали Пикассо и
Матисс, Аполлинер и Макс Жакоб, Эрик Сати и Жан Кокто и многие, многие
другие. Жизнь в постоянном окружении картин самых разных эпох и направлений,
но, что особенно важно, живописи постимпрессионизма, кубизма и фовизма,
постоянное общение с некоторыми из ее создателей, рассуждения и споры об
искусстве -- такова
-381-
была атмосфера, в которой формировалась как художник Гертруда Стайн. "И
вот все глядя и глядя на портрет Сезанна она начала писать "Три Жизни",
первое свое напечатанное произведение", -- писала она в "Автобиографии Алисы
Б. Токлас".
Семи лет, только научившись читать, Гертруда Стайн прочитала всего
Шекспира и попыталась написать шекспировскую драму. С тех пор и всю свою
жизнь она была страстным и всеядным читателем. Она увлекалась
елизаветинцами, знала и любила восемнадцатый
век, включая мемуаристику, путевые заметки, исторические сочинения. Из
английской
литературы викторианских времен отличала Энтони Троллопа.
В англоязычной литературе Гертруда Стайн -- явление весьма
самобытное, и историки литературы затрудняются в определении ее
непосредственных
предшественников. Еще труднее, пожалуй, указать на более или менее
близкие
аналогии и параллели в отечественной словесности. Но созвучность ее
творчества исканиям русской литературы первых десятилетий двадцатого века --
несомненна. В самом общем смысле это созвучность творческих интенций --
стремления
явить новый образ мира в новом слове, обнажая формальные возможности
языкового
материала, конструктивные особенности, присущие языку, на котором
пишется
стихотворение, рассказ или роман, -- чем, в частности, объясняются
различия в результатах, поскольку особенности языка -- это особенности
мировосприятия. Так, использование Гертрудой Стайн богатых аналитических
возможностей английского, где построе-
-382-
ние фразы
создается по преимуществу порядком слов, а развитая многозначность
слова
преодолевается в основном синтаксисом, сопоставимо с тем, что делали
русские футуристы с богатой русской флексией, открывающей большой простор
для словообразования и словотворчества, или с тем, как использовала
способность русского синтаксиса к эллипсу, опущению синтаксических
фрагментов предложения,
Марина Цветаева. Точка соприкосновения с акмеистами -- при всем
несовпадении общей ориентации творчества -- желание вернуть именам вещей
изначальный, прямой, полновесный смысл, очистить их от литературных
наслоений, и пафос
ее знаменитого высказывания, утверждающего, что во фразе "роза это роза
это роза это роза" роза впервые за последние сто лет в английской поэзии
стала красной, удивительно напоминает некоторые антисимволистские выпады
Мандельштама. Тяготение к примитиву, к изображению сложного через
элементарно
простое, к странно и неправильно поставленному слову, порождающему не
формально-грамматические нарушения, а смысловые и логические сдвиги,
вызывает ассоциации с Платоновым и Добычиным. "У директора Графтон Пресс
сложилось
впечатление что может быть ваше знание английского", -- сказал ей
посланец ее
первого издателя. Гертруда Стайн заверила его, что "все, что написано в
рукописи
написано с тем, чтобы быть именно так написанным", и задача издателя
только печатать, а ответственность она берет на себя.
"Строительным материалом" прозы для Гертруды Стайн были предложения.
"Мои предложе-
-383-
ния так и залезают им в печенки", -- говорила она себе в утешение,
прочитав очередную неблагожелательную рецензию. Гертруду Стайн можно было
бы назвать поэтом синтаксиса, потому что ее проза держится на точности
синтаксического, а значит интонационного рисунка. Сосредоточенность на
синтаксисе и его выверенность действительно уменьшает роль пунктуации на
письме, потому что точный синтаксис исключает двусмысленность. Со знаками
препинания Гертруда Стайн обращалась очень вольно, то есть многие из них
попросту не употребляя как нечто необязательное и отвлекающее: ведь и
так понятно, что вопрос -- это вопрос, название -- это название, а прямая
речь -- это прямая речь. Уважала она только точку и время от времени
снисходила
до запятых, полагая, что не нужно облегчать читателю его задачу.
"Длинное сложное предложение должно вам навязываться, заставлять вас познать
себя познавая его а запятая, запятая это в лучшем случае плохая точка в том
смысле
что она дает возможность остановиться и отдышаться но ведь если вам
надо остановиться и отдышаться вы наверное и сами знаете что вам надо
остановиться и отдышаться". Очаровывала Гертруду Стайн и стихия устной речи
с ее диало-гичностыо, особым синтаксисом, интонационными перебивами, и она
активно вторгалась у нее в стихию речи письменной. "Меланкта Гербер",
наиболее выразительная повесть в сборнике "Три жизни", шокировала публику и
критику необычайно смелым по тем временам употреблением языка, на котором
говорят, но не пишут.
-384-
"Париж Франция" -- это дань признательности городу и стране, где
Гертруда Стайн провела большую часть своей жизни и где она стала Гертрудой
Стайн. Это и портрет века, к создателям которого она причисляла и себя, -- и
теперь, на закате века, этот портрет, может быть, будет нам интересен.
Ирина Нинова
-385-
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГЕРТРУДЫ СТАЙН
Три жизни (1909)
Нежные пуговицы (1914)
География и пьесы (1922)
Становление американцев (1925)
Десять портретов (1930)
С приятностью церковь в Аюси (1930)
Оперы и пьесы (1932)
Матисс, Пикассо и Гертруда Стайн (1932)
Автобиография Алисы Б. Токлас (1933)
Четверо святых в трех актах (1934)
Географическая история Америки, или:
Об отношении человеческой природы к человеческому разуму (1936)
Автобиография всех и каждого (1937)
Париж Франция (1940)
Войны на моей памяти (1945)
Брузи и Вилли (1946)
Всем нам мать (1947)
Не хуже Меланкты (1954)
-386-
ГЕРТРУДА СТАЙН БОЛЬШЕ НЕ ПРИЗРАК
"Автобиография Алисы Б. Токлас" в переводе Ирины Ниновой
Еще совсем недавно -- каких-нибудь несколько лет тому назад --
американская писательница Гертруда Стайн существовала в сознании даже
начитанных
русских как некий призрак из истории чужой литературы.
Ее знали по имени да по справке из Краткой Литературной Энциклопедии --
а справка убеждала, что тут и знать нечего: так все примитивно и в то же
время так непонятно, что наверняка очень скучно, -- и довольно с нас.
"Лит. искания С. носили формалистич. характер. Полагая, что иск.-тво
должно передавать ощущение непрерывно длящегося настоящего времени, С.
пыталась добиться этого эффекта повторением одних и тех же фраз, с
небольшими изменениями...
Присущее С. обостренное чувство слова быстро выродилось в косноязычную
абстракционистскую прозу, предельно оторванную от всего предметного и
рационального..."
Автор, так аттестованный,
удостоиться перевода в Советском Союзе, разумеется, не мог. Спасибо и
на том, что переводили Э. Хемингуэя -- довольно прилежного, как теперь
очевидно, ученика
-387-
Гертруды Стайн. В свое время он отдал ей дань, вставив эпиграфом к
своему роману "И восходит солнце" ("Фиеста") одну из фраз из разговора с
Гертрудой Стайн, ставшую крылатой: "Все вы -- потерянное поколение...". Этой
фразой знакомство русских читателей с писательницей практически
исчерпывалось.
И по иронии судьбы случилось так, что неизвестная почти никому
писательница
больше запомнилась в качестве персонажа знаменитой книги того же
Хемингуэя
"Праздник, который всегда с тобой". И это был персонаж неприятный, в
темном облаке какой-то стыдной тайны, в луче холодной насмешки, якобы
снисходительной. Собственно, ничего определенно дурного Хемингуэй о
Гертруде Стайн не сказал -- и даже признал за нею талант и ум, и кой-какие
творческие достижения, но вместе
с тем намекнул, а точнее -- пытался внушить читателям, что все это не
такого крупного калибра, чтобы прощать столь странной особе личные слабости.
Так что, говоря строго, до появления на русском языке "Автобиографии
Алисы Б. Токлас" Гертруда Стайн была для нас -- для большинства из нас
-- не просто призрак: это была оклеветанная тень.
И удивляет не только храбрость переводчицы Ирины Ниновой, еще неопытной
десять лет назад, взявшейся на свой страх и риск за бесконечно трудную
работу, -- поражает ее проницательность, какой-то особенный
историко-культурный
такт из сочинений Гертруды Стайн она выбрала ту самую
-388-
-- быть может, единственную -- книгу, опубликование которой разом
уничтожает все предубеждения, потому что и метод Гертруды Стайн, и ее
личность тут предстают во всей обаятельной силе.
Мы собственными глазами видим теперь, как грубо нас обманывали:
косноязычным
абстракционизмом объявляли неслыханную конкретность и выдавали за
унылый
абсурд результаты блестящих наблюдений, ну и конечно же, никакой
мемуарной
сплетне не под силу омрачить привлекательность главной героини этого
автобиографического романа.
Эта книга из тех, что вселяют в читателя неколебимое доверие к автору:
мы до такой степени усваиваем его взгляд на вещи, что думаем, будто это он
по счастливому совпадению разделяет наши
мысли. В частности, как-то само собой выходит, что несколько слов
Гертруды Стайн о Хемингуэе затмевают -- и пожалуй, объясняют почти все
сказанное Хемингуэем о Гертруде Стайн.
И вообще -- совершенно понятно, почему современникам
с нею приходилось трудно. В конце двадцатого века -- после Хлебникова,
после Кафки, после Добычина -- мы догадываемся о закономерностях,
определяющих траекторию писателя, подобного Гертруде Стайн.
Но она эту судьбу испытывала едва ли не первая -- в эпоху ее дебюта
этот тип литературного дара даже люди богемы не умели с уверенностью
отличать от психического расстройства.
Ее ведь, как мания, снедало чувство долга -- долг состоял в том, чтобы
как можно точнее, не
-389-
упуская ни оттенка, записать собственный внутренний голос -- и сколько
бы ни мечтала она о счастье быть понятой, поступиться ради этого счастья
(тем
более -- ради сопутствующих благ, вроде славы) ни строкой, ни словом,
ни запятой (то есть отсутствием запятой) не могла себе позволить.
Все вокруг старались писать, как другие, только лучше, по возможности
-- гораздо лучше. А она хотела выполнить свой долг -- и создавала тексты
по образу и подобию собственных мыслей, не признавая других образцов.
Этот злосчастный внутренний голос неумолимо диктовал ей сочинения, не
обладавшие
литературными достоинствами -- во всяком случае такими, какие тогда
нравились другим в других. Ценность ее прозы усматривалась разве только в
том, что именно эти предложения пришли ей на ум, и что только ей -- никому
больше, -- и что они записаны точно. Это было ненадежное, недостаточное
обоснование.
Мало ли что приходит человеку в голову. Тождество (к тому же
недоказуемое) внутренней речи и письменной -- что тут особенного, а главное,
что хорошего, какая от этого польза или хотя бы в чем красота? Автор пишет
как думает, а думает не так, как пишут другие? Тем хуже для этого автора.
Писатели не понимали Гертруду Стайн, и она дружила больше с
живописцами. Матисс и Пикассо тоже ненавидели пошлые условности ремесла,
почитаемые как законы искусства. Над Матиссом и Пикассо потешались в
точности, как над нею, а потом вдруг
каким-то чудом публика сама научилась их любить -- значит, и у Гертруды
Стайн была надежда...
-390-
В "Автобиографии Алисы Б. Токлас" Гертруда Стайн о своей литературной
участи говорит легко и свою личную жизнь изображает
чуть ли не сплошным праздником, и вообще соблюдает тон светской
болтовни
как бы о пустяках (но бесценных, и ей это было отлично известно), и все
же книга серьезна, как исповедь.
Потому что написана она, в сущности, о единственно важном для Гертруды
Стайн -- о том, как она, вот эта самая книга, пишется, как возникают в уме и
переходят на бумагу слова, из которых она состоит.
И каждая фраза пылает жаждой совершенства
то есть абсолютной честности -- когда устройство фразы передает
реальную жизнь
мысли в реальном времени мышления: как перетекает предмет мысли в
предмет искусства.
Люди думают без знаков препинания. Да и общепринятый порядок слов и
грамматические времена -- не что иное как удобный
самообман. Сознание, предельно сосредоточенное на своей истинности,
отчаянно ищет личных речевых средств и торжествует как одержанную победу
каждое законченное высказывание.
Так что было бы не совсем верно полагать, будто Ирина Нинова перевела
эту прозу с английского на русский.
Она переводила с одного несуществующего языка на другой -- небывалый.
Само собой, необходимо требовался особенный синтаксический
рисунок, тщательно процеженный словарь, и мастерство и вдохновенье...
Вытачивая бесчисленные
-391-
подробности, до изнеможения уточняя нюансы, Ирина, кажется, не успела
заметить, что добилась несравненно большего, чем самое полное сходство копии
с оригиналом: создала образ новой интонации, прежде неизвестной, отныне
незабываемой.
Один Бог знает, как ей это удалось. Все пишущие мечтают о таком, иные
же целую жизнь бьются тщетно. Правда, у Ирины не было времени ждать, но
разве она догадывалась об этом?
Ее терзала неистовая взыскательность к тексту -- единственная страсть
Гертруды Стайн. Это не похоже на случайность. Почти десять лет она не
расставалась с переводом романа (опубликованного впервые в сокращенном
варианте в трех номерах журнала "Нева" 1993, NoNo 10, 11, 12). За это же
время успела перевести две пьесы Эжена Ионеско, несколько литературных эссе
Иосифа Бродского и Владимира Набокова, очерки Александра Дюма, новеллы
Огюста Вилье де Лиль Адана, повесть-сказку Д'Онуа, публицистику Бертрана
Рассела, Альбера Камю, Роберта Конквеста, Салмана Рушди, Ханса Конинга и
других. Некоторые вещи Ирина переводила быстро, почти сразу набело, а вот
проза Гертруды Стайн потребовала груды черновиков.
Появлению в журнале "Автобиография Алисы Б. Токлас" предшествовали
сотни страниц машинописи, испещренные бесчисленными поправками и вариантами.
Переводы каждой главы романа существуют в нескольких редакциях. И наконец
самые последние многочисленные уточнения в журнальной корректуре были
присланы Ириной из
-392-
Англии, из университета в Норвиче, куда она отправилась по приглашению
Британского Совета в частности и для того, чтобы лучше изучить литературу,
посвященную Гертруде Стайн...
С завершением своего труда Ирина Нинова выросла в искушенного, опытного
переводчика, одного из самых многообещавших молодых талантов петербургской
переводческой школы Эльги Львовны Линецкой, может быть, лучшей творческой
школы в нашей стране. И сколько бы ни появилось еще переводов неповторимой
американской писательницы, связавшей свою судьбу с Парижем XX века,
поколения читателей будут отождествлять искусство Гертруды Стайч и ее облик
с мелодикой первого русского издания.
Гертруда Стайн больше не призрак. Она стала голосом, ясным и глубоким,
исполненным тончайшего веселья и серьезности почти наивной. Этот голос ей
подарила молодая задумчивая женщина -- Ирина Александровна Нинова. Подарила
и ушла навсегда, насовсем, против воли увлекаемая безжалостной судьбой.
Часть ее жизни, несправедливо краткой, осталась в книге Гертруды Стайн.
Потому что текст -- как любовь: непрерывно длящееся настоящее. Потому что
роза это роза это роза это роза.
Самуил Лурье
-393-
СОДЕРЖАНИЕ
Часть первая
ДО ПРИЕЗДА В ПАРИЖ 5
Часть вторая
МОЙ ПРИЕЗД В ПАРИЖ 11
Часть третья
ГЕРТРУДА СТАЙН В ПАРИЖЕ 45
Часть четвертая
ГЕРТРУДА СТАЙН ДО ПРИЕЗДА В ПАРИЖ 103
Часть пятая
1907--1914 127
Часть шестая
ВОЙНА 209
Часть седьмая
ПОСЛЕ ВОЙНЫ. 1919--1932 281
Приложение
ПАРИЖ. ФРАНЦИЯ 365
О ГЕРТРУДЕ СТАЙН
Ирина Нинова 380
ГЕРТРУДА СТАЙН БОЛЬШЕ НЕ ПРИЗРАК
"Автобиография Алисы Б. Токлас в переводе Ирины Ниновой
Послесловие Самуила Лурье 387
-394-
ГЕРТРУДА СТАЙН
С 76 Автобиография Алисы Б. Токлас/ Перевод с английского И. Ниновой --
СПб. ООО ИНАПРЕСС, 2000, 400 стр. Редактор Н. Кононов, художник М.
Покшишевская.
ISBN 5-87135-091-7
Гертруда Стайн (1874-- 1946) -- выдающаяся писательница этого века,
впервые предстает перед русским читателем в своеобразном автобиографическом
романе (1933 г.). Писатели и художники, деятели культуры, чьими усилиями
было "сформировано выражение лица" XX века пройдут чередой по страницам этой
книги. Этот роман можно читать по-разному -- как художественный справочник и
путеводитель по авангардным мастерским и подмосткам Парижа, как историческое
повествование и, наконец, как психологический и стилистический шедевр.
Многолетний труд замечательного переводчика Ирины Ниновой (1958 --
1994) позволяет нам судить о тонком своеобразии манеры Стайн и доносит до
нас аромат ушедшей эпохи.
Издание снабжено статьями.
-395-
ГЕРТРУДА СТАЙН Автобиография Алисы Б. Токлас
перевод с английскою И. Ниновой
Сдано в набор 15.08.99. Подписано к печати 11.09.99.Формат 70x90/32
Гарнитура Лузурского. Печать офсетная.
Усл.-печ.л. 12,5 Уч.-изд.л. 15,7. Тираж 1000 экз. Заказ 3670
Издательство ООО ИНАПРЕСС СПБ, Невский пр, 74.
ЛР No 062759 от 0407.1998 г.
Отпечатано с готовых диапозитивов в Академической типографии "Наука"
РАН
199054, Санкт-Летербург, 9-я линия, 12

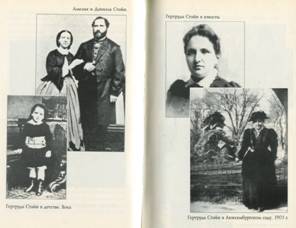
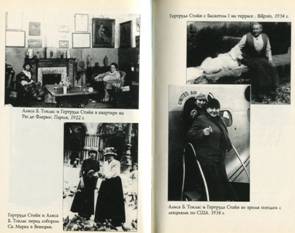

Популярность: 131, Last-modified: Tue, 24 Oct 2017 19:00:25 GmT
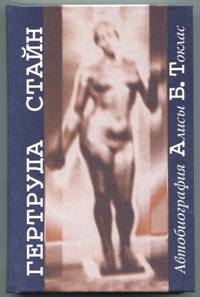
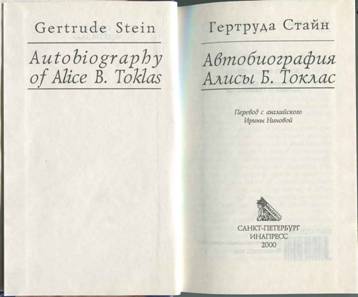
 Гертруда Стайн
АВТОБИОГРАФИЯ АЛИСЫ Б. ТОКЛАС
Перевод с английского И.А. Ниновой
СПб, Ина-Пресс
2000
Гертруда Стайн
АВТОБИОГРАФИЯ АЛИСЫ Б. ТОКЛАС
Перевод с английского И.А. Ниновой
СПб, Ина-Пресс
2000